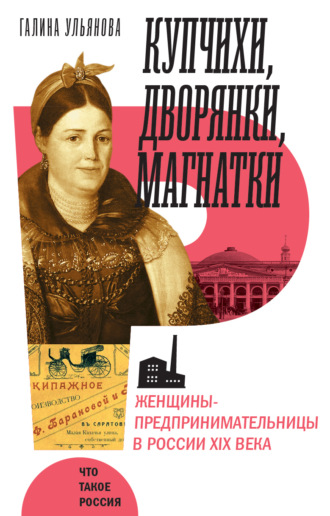
Купчихи, дворянки, магнатки. Женщины-предпринимательницы в России XIX века
У 31 из 33 предпринимательниц, представленных в списке за 1832 год, предприятия размещались в их собственных домовладениях. Более того, само владение фабричными предприятиями было свидетельством стабильности бизнеса – более 80 % династий, к которым принадлежали фабрикантки (по мужу или отцу), имели собственные домовладения. Это прослеживается по материалам ревизий 1811 и 1815 года и списку недвижимости за 1818 год. А в трех случаях домовладения, принадлежавшие предыдущему поколению династии, зафиксированы в документах еще во время ревизии 1795 года.
Недвижимость могла служить источником дополнительного дохода. Например, владелица фабрики хлопчатобумажных платков Марья Ходателева сдавала один из флигелей своего домовладения купцу Александру Кириллову под бумаготкацкую фабрику, на которой числились 95 рабочих. У Ходателевой была также лавка с квартирой в ее собственном доме, и она сдавала ее мещанке Анне Алексеевой за 275 рублей в год. Хотя формально Кириллов был конкурентом Ходателевой, эта аренда демонстрирует гибкую стратегию получения доходов женщинами-предпринимателями.
Найдены сведения о количестве рабочих на некоторых предприятиях в 1830–1840‐х годах. На шелковых фабриках: у Дунашевой – 156 человек (1838), Ефимовой-Фоминой – 37 человек (1834), Кучуминой – 27 (1838); на ситценабивных: у Медведевой – 122 (1834), Петровой – 100 (1838), Розановой – 72 (1834), Шелеповой – 28 (1834); на суконной у Часовниковой – 25 (1831). На золотопрядильной фабрике Алексеевой – 56 человек в 1834 году и 140 в 1843 году. На колокольном заводе Богдановой – пятеро рабочих (1838 и 1843).
Коснемся демографических параметров, в частности возраста предпринимательниц-купчих и количества рожденных ими детей. Возраст удалось установить только для 30 персон (1832): от 27 до 67 лет. В том числе от 20 до 30 лет – один человек, от 31 до 40 – четыре человека, от 41 до 50 – девять человек, от 51 до 60 – шесть человек, от 61 до 70 лет – десять человек.
Объединение сведений о возрасте с информацией о брачном статусе показывает, что среди предпринимательниц доминировали вдовы в возрасте от 41 до 67 лет. Доля вдов составила 83 %.
Среди 33 предпринимательниц бездетных было трое – две вдовы и одна 35-летняя незамужняя девица. Выделим несколько групп по количеству сыновей (которые числились в ревизию 1834 года): один сын – у девяти женщин, два сына – у девяти женщин, три сына – у четырех женщин, четыре сына – у пяти женщин, пять сыновей – у одной. Не было сыновей, но были дочери у двух человек. Были и примеры многодетности. Одна из старейших по возрасту предпринимательниц 67-летняя Авдотья Соболева, перешедшая из мещанства в купечество в 1825 году, имела троих сыновей и четырех дочерей. В 1832 году они были в возрасте 45, 42, 39, 47, 43, 36 и 33 лет, все неженатые и незамужние, что, видимо, свидетельствовало о деспотическом характере матери. У владелицы восковой фабрики 53-летней Пелагеи Толоконниковой было пятеро сыновей и четыре дочери.
Как же предпринимательницы получали в свою собственность предприятия? Тут, как и в случае дворянок, разрушается стереотип об имущественной зависимости российских женщин от мужей. Оказалось, что наследование предприятий от мужа происходило только в половине случаев.
После смерти мужа возглавили предприятия 17 человек из 33 (52 %), 6 предпринимательниц были замужними, но унаследовали свои предприятия от родителей (18 %). Одна была незамужней и либо получила фабрику от родителей, либо основала ее самостоятельно. Схема наследования одной предпринимательницей не установлена.
Еще восемь случаев представляют более сложные варианты. Две предпринимательницы возглавили предприятия при жизни престарелых мужей, причем мужья перешли в низшее мещанское сословие, а жены при этом остались в купечестве. Неизвестно, была ли эта рокировка осуществлена с согласия мужей или, воспользовавшись старческой дряхлостью супруга, жены сами энергично захватили власть, желая получить полный контроль как над предприятиями, так и в семье. Законодательством такой «переход капитала» от одного члена семьи к другому допускался.
Еще в одном случае предприятие наследовалось невесткой от свекрови после смерти 18-летнего мужа, «состоявшего при матери», в другом – матерью от умершего сына.
Самостоятельно основали предприятия четыре собственницы.
В некоторых случаях вдовы, наследовавшие после смерти мужей (17 человек), получали предприятия, являвшиеся предметом бизнеса семьи мужа; в дальнейшем они состояли владелицами предприятий от двух до двадцати восьми лет, до передачи их в руки сыновей, которые становились владельцами семейного бизнеса в следующем поколении. К замужним и незамужним предпринимательницам, как правило, предприятия переходили от родителей в том случае, если в семье не было наследников-сыновей.
Мещанки, цеховые, крестьянки, солдатки и казачки
Детальное изучение промышленной статистики и архивных дел по отдельным предприятиям опровергает еще один стереотип – будто бизнесом могли заниматься исключительно женщины, располагавшие значительным начальным капиталом, а также унаследовавшие уже действовавшие предприятия от родителей или мужа. Это не так. Как в столицах, так и в провинции было немало смелых, можно сказать, отважных женщин. Они с нуля начинали предприятия, часто маленькие или средние, упорно преодолевая трудности, связанные с бюрократическими барьерами по регистрации предприятия, а затем с подачей отчетов в контролирующие органы о функционировании фабрики или завода.
Женское промышленное предпринимательство характеризовалось смешанным сословным составом собственниц. Как уже говорилось, среди владелиц фабрик были не только дворянки и купчихи, но и женщины низших сословий. В качестве примера можно привести упомянутый ниже существовавший на рубеже XVIII и XIX веков в Пинеге Архангельской губернии кожевенный завод мещанки Марфы Кокиной.
Некоторые мещанки стремились, несмотря на малый объем производства, интегрироваться в институциональные структуры общероссийского бизнеса. Например, с середины XIX века они участвовали в мануфактурных выставках наряду с крупными игроками. В материалах выставки российских мануфактурных изделий 1843 года были представлены «металлические ткани», изготовленные на предприятии московской мещанки Елизаветы Сидоровны Сарафановой. Металлические ткани представляли собой проволочные сетки разного плетения, использовавшиеся в промышленных целях, например в писчебумажной промышленности для фильтрации бумажной массы или как детали земледельческих машин.
Обратимся к статистике. По данным за 1814 год из 165 владелиц фабрик 20 (12 % от всего количества) принадлежали к мещанскому сословию, были среди них также четыре крестьянки, солдатка и казачка. В 1832 году среди 484 собственниц предприятий были 48 мещанок (10 %), 16 крестьянок, 6 цеховых, 1 солдатка.
Мещанки имели небольшие предприятия, где трудились от одного до двенадцати (изредка до пятнадцати – двадцати) наемных рабочих. Это были скорее мастерские, а не фабрики, – с небольшим помещением и простым оборудованием. Наиболее активно мещанки проявлялись в кожевенной и мыловаренной-свечносальной отраслях.
Мещанки происходили из низшей городской страты людей с низкими доходами, которые, соответственно, должны были платить в казну минимальные подати. По финансовым причинам эти люди не могли подняться выше по социальной лестнице, поскольку переход в купечество должен был сопровождаться повышением платежей за ведение бизнеса в несколько раз. Например, в 1820–1830‐е годы купцы 1‐й гильдии платили в год за взятие так называемого промыслового свидетельства в Москве 2200 рублей ассигнациями, 2‐й гильдии – 880 рублей, 3‐й гильдии – 220 рублей. В провинции плата была меньше – от 132 рублей за 3-ю гильдию. Мещане же платили в Москве за свидетельство, дававшее право заниматься бизнесом, 120 рублей и меньше, в провинции – 40–100 рублей. Также все городские обыватели должны были платить сбор «за торговое место», то есть к промысловому свидетельству брать еще дополнительный билет на лавку или мастерскую, и у мещан плата была в два раза ниже, чем у купцов.

Плата за небольшие промышленные предприятия с числом рабочих до шестнадцати человек периодически отменялась. Например, в 1830‐е годы их устраивали «на праве мещанском».
Правда, в какой-то момент обнаружилось, что некоторые московские мещане хитрили: платили за ведение бизнеса по минимальной таксе, но при этом имели дома стоимостью свыше 25 тысяч рублей. Чаще всего владение домами объяснялось тем, что ранее их собственники принадлежали к купечеству, но потом прекратили вести бизнес или уменьшили объем оборотов, что вынудило перейти в мещанство.
Один из органов городского самоуправления – существовавшая с 1786 года Московская шестигласная дума, ведавшая в том числе сбором налогов в городскую казну, – вела строгое наблюдение за мещанами, не допуская утаивание ими высоких доходов. По закону лица, имевшие дома стоимостью свыше 25 тысяч рублей, были обязаны объяснить происхождение денег и брать свидетельство 3‐й гильдии на торговлю. Те, кто имел дорогую недвижимость, но при этом не брал купеческие свидетельства, подвергался штрафам. Московская казенная палата совместно с полицейскими органами (Управой благочиния и частными приставами) ежегодно составляла списки мещан, цеховых и членов их семей, имевших дорогие дома. В соответствии с этими списками владельцев обязывали заплатить гильдейский сбор, а за нарушение правил с них брали штраф.
В 1829 году были взысканы средства (налог и штраф за несвоевременную уплату) с ряда московских мещан, имевших в собственности дома стоимостью свыше 25 тысяч рублей, в частности с мещанки Ольги Шелапутиной, проживавшей «на улице Коровьего Брода» (сейчас 2-я Бауманская улица) в Лефортовской части. В 1838 году было взыскано 945 рублей за три года неплатежей (1836–1838) с мещанки Марьи Левиной, ранее – подольской купеческой жены, имевшей в Котельническом переулке (сейчас 1‐й Котельнический переулок) Яузской части дом стоимостью 50 тысяч.
Если взять сведения за 1814 год по кожевенной промышленности, можно сравнить купеческие (их было 16) и мещанские (их было 11) предприятия. Оказывается, что 16 предприятий, принадлежавших женщинам из купеческого сословия, имели рабочих от 2 до 23 человек (средний показатель условно 9,2 работников на предприятие), а принадлежавшие мещанкам – от 2 до 10 человек (средний показатель условно 4,8 работников на предприятие). На купеческих предприятиях обрабатывалось в год от 500 до 7000 шкур (средний показатель – 2971 штука на предприятие), на мещанских – от 70 до 3200 шкур (средний показатель – 1073 на предприятие).
Особенно много кожевенных предприятий, принадлежавших мещанкам, размещалось в Смоленской (три), Псковской и Нижегородской (по два) губерниях. В Смоленске мещанка Катерина Кореневская силами всего двух вольнонаемных рабочих изготавливала до 70 штук кож. А в уездном городе Белом, где было всего 4 тысячи жителей, мещанки имели два предприятия. Улита Кожеурова занималась производством «яловочных, коневьих», подошвенных и опойковых кож, в год ее предприятие с пятью рабочими выпускало около 300 кож. Ефросиния Кривченкова производила 600 кож в год на предприятии с четырьмя рабочими.
В Казанской губернии в разных отраслях были весьма активны предприимчивые татарки. К примеру, в Казани имелось предприятие по производству козловых кож мещанки Вахрамы Сабимовой, на котором трудились десять вольнонаемных рабочих-мужчин.
Высокий процент мещанских предприятий отмечен в 1814 году еще в одной отрасли, которая объединяла мыловаренные, салотопенные, свечные предприятия, где дворянок среди собственниц не было вообще. Зато мещанкам принадлежало пять предприятий из девятнадцати, они находились в Московской, Псковской, Томской губерниях. В этих мастерских работали один-два человека, то есть их можно расценивать как кустарное производство. Тем не менее объем продукции у этих предприятий был немалый. Например, в Томске мещанка Наталья Старкова производила на продажу 260 пудов мыла в год (в современных мерах – 4,3 тонны). По одному предприятию находилось во владении казачки Прасковьи Ширабардиной в Саратове и солдатки Татьяны Федотовой в Курске. Впрочем, их заведения корректнее отнести к мастерским. Федотова для варки мыла, производимого, видимо, самой хозяйкой, наняла одного человека, а производство составляло 15 пудов в год (246 килограммов). Ширабардина также имела только одного рабочего, и ее мастерская производила в год 30 пудов (491 килограмм) сальных свечей.
В 1830‐е и 1840‐е годы мещанки стали гораздо активнее в устройстве и руководстве предприятиями. По статистике за 1832 год, более всего мещанок оперировали в кожевенной и мыловаренной отраслях (24 и 16 соответственно). Эти небольшие предприятия были рассеяны по всем губерниям.
Например, в Вологодской губернии было четыре принадлежавших мещанкам предприятия: кожевенное Натальи Мешинниковой, веревочные Маремьяны Быструниной, Пелагеи Овечкиной, Веры Пономаревой. В отличие от дворянок, часто практиковавших наем управляющего на фабрику, мещанки, как и купчихи, обычно руководили производством самостоятельно. При этом мужья не вмешивались в бизнес жен и могли вести собственный бизнес, например руководить предприятием в той же отрасли. Так, муж Пономаревой Василий Пономарев и муж Быструниной Петр Быструнин имели в Вологде свои предприятия по производству веревок.
В Тверской губернии на кожевенном предприятии мещанки Нечаевой в Осташкове в год изготавливалось 857 кож при одном наемном работнике. В Вышнем Волочке и Ржеве мещанки имели кирпичные заводы – у мещанки Телятниковой изготавливалось в год кирпича на 200 рублей серебром, трудились двенадцать рабочих; у Малыгиной продукции производилось на 1500 рублей серебром при восьми рабочих. Продукция этих предприятий была востребована в пределах губернии, а иногда и только уезда. Предприятия были небольшими, но их деятельность была стабильной, а продукция пользовалась спросом.
В Рязанской губернии, по сведениям 1837 года, мещанка-вдова Жданова (ее имя нам неизвестно) имела два предприятия в уездном городе Михайлове; ей принадлежали завод «сальных свеч» и мыловаренный завод. Жданова унаследовала оба предприятия от своего мужа Василия Жданова, который числился их владельцем в 1832 году, то есть пятью годами раньше. Мыловарня приготовляла ежегодно «простого» мыла до 1220 пудов (почти 20 тонн) на сумму 10 980 рублей, а свечей производилось до 700 пудов (около 11,5 тонн) на 9 тысяч рублей. На свечносальном предприятии у Ждановой были два работника, а сколько на мыловаренном – неизвестно. Специализация предприятия объясняется наличием сырья – говяжьего сала. До пуска железных дорог в последней трети XIX века имело принципиальное значение то, что город Михайлов находился вблизи скотопрогонного тракта, по которому из южных губерний, прежде всего из области Войска Донского, на Москву и Петербург (через Зарайск и Коломну) направлялись гурты быков, до 100 тысяч голов ежегодно. Скот пригоняли, размещали на скотопригонных дворах, откуда их раскупали на мясо для питания жителей столиц. Поэтому в Рязанской губернии было немало салотопенных, свечносальных и кожевенных предприятий, для которых рязанцы прямо на месте могли закупать некоторое количество прогоняемого по тракту скота.
Примеры деятельности нестоличных мещанок в Вологодской, Тверской и Рязанской губерниях показывают, что женщины были заняты в тех отраслях, где производились товары массового спроса: мыло и сальные свечи для каждодневного употребления, кирпич для строительных работ и кожи для изготовления обуви. Причем в Тверской губернии на выбор специализации, безусловно, оказывало влияние развитие там именно сапожного и башмачного промысла. Наиболее известны в этом отношении были Кимры и Кимрский уезд, где этот промысел развивался с XVII века. Из Кимр осуществлялись крупные поставки сапог в армию, там же было налажено массовое изготовление мужской и женской обуви для отправки на продажу в лавки Москвы и Петербурга.
По Москве довольно подробную картину присутствия мещанок в мелкой промышленности и ремесле можно получить по архивным документам. В 1811 году в московском мещанстве числились 18 138 человек (6,6 % городского населения), в 1825 году мещане составляли 33 417 человек (13 %), в 1840‐м – 55 375 (16 %). Доля мещанок среди владелиц заведений в мелкой промышленности (число рабочих до 16 человек) составляла в разные годы до 25–30 %. Им принадлежали скромные по размерам предприятия, выпускавшие продукцию массового спроса: платки и ленты, ткани шерстяные и хлопчатобумажные в небольшом объеме, чулки и рукавицы, готовое платье, помаду и румяна, сальные свечи для освещения жилищ. Во владении мещанок находилось несколько десятков кузниц (около 20–30 % из общего числа 150 в 1847 году). В 1847 году в домашнем пользовании москвичей было 46 810 лошадей при числе жителей 349 987 человек, поэтому кузницы, где делали подковы и части упряжи, были важнейшим элементом городской инфраструктуры.
Рассмотрим случай московской мещанки Марьи Родионовны Бреховой, которая с 1849 года содержала «заведение для литья свечей» в Сущевской части на Новослободской улице, в помещении, представлявшем собой подвал под каменным двухэтажным домом и арендуемом у купца Василия Варгина. В данном случае Брехова наследовала бизнес от матери: существовавшая с 1828 года свечносальная мастерская досталась Марье от мещанки Авдотьи Васильевны Пошехоновой. Вероятно, дочь принимала участие в организации производства еще при жизни матери, потому что в прошении Марьи, поданном в канцелярию московского генерал-губернатора в 1849 году, когда после смерти матери следовало перерегистрировать предприятие на Марью, родственники-мужчины не фигурируют, а замужняя Марья подчеркивает, что она является единственной наследницей. Эта мастерская была основным делом мещанской семьи, дававшим средства к существованию.
Производство в мастерской Пошехоновой и Бреховой заключалось в том, что сало растапливалось в трех «медных котлах, вмазанных в кирпичные „затопы“», а потом разливалось по сорока формам. В производстве были заняты четверо: координировала весь процесс «мастерица – сама хозяйка», а работали трое рабочих-мужчин – как указано в поданных генерал-губернатору документах, «все вольнонаемные, русские». В 1847 году для производства свечей Авдотья и Марья закупили 800 пудов (около 13 тонн) топленого говяжьего и бараньего сала на крупную для бюджета мещанской семьи сумму 2300 рублей, а готовой продукции того же веса продали на 3800 рублей. В 1850 году, уже после смерти матери, Марья расширила производство: оборот составил 1200 пудов (19,7 тонны), а продукции было продано на 4200 рублей (по 3 рубля 50 копеек за пуд). Существование предприятия прослеживается до 1858 года, то есть оно работало не менее 30 лет в двух поколениях мещанской семьи.
Тут стоит отвлечься на объяснение того, что такое сальные свечи и почему они составляли значительную долю в промышленной продукции, включая продукты «женских» фабрик и мастерских в разных городах. В XVIII веке и почти до 1880-х годов в России, как и во всей Европе, употреблялись два вида свечей – восковые и сальные. Сальные свечи были основным источником повседневного освещения жилищ даже у дворян. Восковые свечи, производившиеся из продукта, сопутствовавшего производству меда, стоили весьма дорого (80 рублей за пуд) и большинству населения были не по карману. В городском быту чаще использовались свечи сальные (стоившие в среднем около 12 рублей за пуд), крестьяне же для освещения изб использовали преимущественно лучину.
«Журнал мануфактур и торговли» в 1825 году писал:
Изготовление сальных свеч есть один из важнейших предметов промышленности, судя по великому употреблению оных. ‹…› Известно, что сальные свечи делаются из жира животных, растопленного и очищенного, который в сем виде называется сало. Доброта свеч, во-первых, зависит от хорошего сала; для сего не должно употреблять иного жира, кроме бараньего или овечьего и бычачьего или коровьего, того и другого поровну. Всякий другой жир вообще не годится, а всего менее свиной, от которого свеча плывёт, воняет и горит тусклым и густым огнем.
Технология приготовления свечей была следующая. Свечной заводчик снимал с купленного сала кожу и мясо, резал сало на мелкие куски для растапливания на малом огне в котле из желтой меди. Стоявший у каждого котла рабочий должен был почти беспрестанно в течение нескольких часов мешать сало палкой и снимать пену. Для этого требовалась немалая физическая сила, а потому там работали только мужчины. Растопленное сало выливали в деревянную кадку сквозь частое волосяное сито. В течение суток в сале оседали на дно примеси и посторонние частицы. Потом сало выпускали в формы через воронку, находившуюся в кадке на 15–20 сантиметров выше дна.
Формы представляли собой деревянные или металлические корытца, на которые вначале особым образом наматывались фитили (их называли «светильни») из хорошо вычесанного, очищенного от семечек, узлов и сора хлопчатобумажного волокна, а потом туда заливалось жидкое сало. Когда сало застывало, его разрезали по числу фитилей и направляли на продажу. Производитель продавал сальные свечи не штуками, а пудами. Но в мелочных лавках, которые в больших городах были почти в каждом квартале, такие свечи продавались, конечно, поштучно.
Владелицам кожевенных, салотопенных, чугунолитейных и прочих заводов, которые использовали огонь и вредные химические продукты, следовало получать специальное разрешение у московского генерал-губернатора: уже начиная со второй половины XVIII века существовала строгая регламентация устройства предприятий, «вредных чистоте воздуха и воды» и причиняющих «вред и беспокойство окрестному населению», как это было сформулировано в законодательстве. По указам 1803, 1833 и 1849 годов надзор все более ужесточался. Так, близ жилых строений или в других «небезопасных для пожара местах» запрещалось строительство «действующих огнем или парами фабрик».
После того как Брехова подала генерал-губернатору А. А. Закревскому прошение на перерегистрацию на свое имя предприятия, полученного по наследству от матери, к ней прислали для проверки архитектора Михаила Доримедонтовича Быковского. Быковский был учеником архитектора Д. Жилярди, но, кроме архитектурных проектов, разрабатываемых по заказу города и частных владельцев, например Московской биржи и усадьбы Марфино, состоял архитектором при канцелярии генерал-губернатора. В феврале 1850 года Быковский осмотрел заведение и доложил, что препятствий для продолжения производства не обнаружил. Другую проверку осуществила полиция, отчитавшись об этом в рапорте:
Дурного запаха от сего заведения не происходит и опасностию пожара соседним владениям оно не угрожает, а потому к дозволению препятствий со стороны полиции не имеется.
В отличие от Бреховой, другой мещанке, Матрене Косцовой, в 1830 году было запрещено устраивать красильню у Новоспасского монастыря за Таганкой, на берегу Москвы-реки. Матрена была мещанкой, переехавшей из Рязани в Москву. Она взяла в аренду землю, на которой собиралась построить дом с мезонином, а в нежилой пристройке организовать красильное заведение. Косцова подала прошение в Комиссию для строений в Москве, действовавшую при генерал-губернаторе. К прошению прилагался план участка и эскиз фасада будущего дома.
Комиссия разрешила Косцовой построить жилой дом, но строжайше запретила устраивать красильню, ссылаясь на положение Комитета министров 1826 года, по которому «постройку красилен внутри столицы допускать не велено». Более того, полицмейстеру Верещагину было дано указание «иметь неослабное наблюдение, чтобы… Матрена Косцова в доме своем никаких заведений, смрад и нечистоту производящих, не производила».
Из материалов по фабрикам и ремесленным мастерским в Москве за 1825 год следует, что устройство мещанками мелких ремесленных предприятий в 1820–1830‐е годы стало массовым явлением. Наиболее интересны, конечно, сведения о размере предприятий, который логично и легко определить по количеству наемных рабочих.
Например, в Якиманской части мещанки Степанида Иванова и Александра Антонова имели красильное заведение, в котором работали сами с еще одним наемным рабочим. То же у Натальи Брычевой, о которой в ведомости сказано: «занимается деланием румян».
В отличие от этих полукустарных заведений, на ткацких предприятиях рабочих было больше. Мещанка Федосья Антонова, имевшая «платочное заведение на трех станках», на одном станке сама ткала платочное полотно (в виде стандартного куска, потом разрезавшегося на квадратные платки, которые оставалось только подметать), а на двух других у нее работали две нанятых ткачихи. Вышеупомянутые мещанки устраивали свои заведения в наемных, то есть арендованных помещениях.
В отличие от них мещанка Феоктиста Матвеева владела столярным заведением, которое находилось в ее собственном доме на Большой Ордынке. У нее работали четверо наемных рабочих: трое взрослых мужчин и один подросток-ученик.

