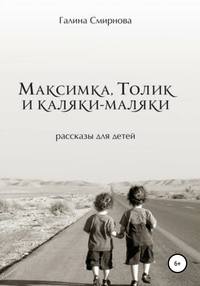Вокализ
– До свидания, – хором ответили мы.
Мужчина ушёл, гремя тележкой с душистой травой по раздолбленному асфальту.
Вспоминала дома прожитый день, как будто смотрела два разных фильма – один цветной, где были золотой пляж, сосны, река, смеющиеся дети и женщины, яблоневый сад… и другой, чёрно-белый – разрушенные дома, тёмные окна, пустота и сожжённые книги…
Из опавших яблок, что мы собрали в старом саду, я сварила изумительное варенье – густой сироп и прозрачные дольки, одна к одной, медово-янтарное, пахнущее летом и солнцем.
Просто было лето
В то лето Алину с братом Алёшей родители отправили на дачу к маминой сестре тёте Вере.
– Нам нужно поменять крыльцо, полы на веранде, да и крышу починить пора. Как всё сделаем, приедем за вами, – сказала мама.
Алёша с Алинкой и не возражали, тем более у тёти Веры был сын Миша, их двоюродный брат, ему уже тринадцать, Алинке двенадцать, а Алёше десять. Алёшу с Алинкой на вокзале встретил дядя Коля, на машине быстро доехали до места, это был старый небольшой домик в забытой деревне, доставшийся дяде Коле от родителей.
– Как же выросли! – заохала тётя Вера. – Да где же ты, Миша!
В дверях появился двоюродный брат, рослый, крепкий, русоволосый, с большими серыми глазами и веснушками на носу. Они виделись лет пять назад и сейчас с любопытством и смущением рассматривали друг друга.
– Алиночка, у тебя коса ещё! Сейчас ведь ни у кого нет косы, тебе идёт, моя красавица. Как ты на бабушку нашу – бабу Лиду похожа, – тётя Вера обняла покрасневшую, застеснявшуюся племянницу. – А ты, Алёшенька, весь в отца! Ну, пойдёмте к столу.
После обеда Алинка помогла убрать со стола, а потом все трое пошли погулять. Алёша с Алиной никогда не были на даче двоюродного брата, поэтому с интересом слушали его.
– Деревня наша небольшая – двенадцать домов, отдалённая, и добираться к нам неудобно, поэтому дачников мало, пока ещё даже и не приехали. А зимуют только в пяти домах. Мама всё лето здесь, у неё отпуск большой, она же учительница, а папа приезжает, как может.
– А ты как время проводишь? – с улыбкой спросила Алинка.
– Я… я, – смутился Миша, – по-разному. Пойдёмте, покажу вам заброшенную турбазу.
Дом, где летом жил Миша с родителями, располагался в самом конце единственной деревенской улицы, которая продолжалась широкой дорогой, проложенной среди большого поля, засеянного клевером, тимофеевкой, мятликом, на котором местами уже белели первые ромашки.
– Скоро ромашек будет много, вот красота! – обратилась Алинка к Мише.
– Скоро клевер и ромашки вовсю зацветут, пора, – басовито ответил Миша, голос у него стал почти взрослым, низким, мужским.
Пересекли поле, спускавшееся с одной стороны вниз к узкой быстрой речке и поднимавшееся с другой стороны вверх, к горизонту, так что верхнего края и видно не было, только голубое безоблачное небо. Вошли в тенистый хвойный лес, пересекли глубокий овраг, пошли по широкой лесной дороге, одолевали стаи комаров. Миша сломал две берёзовые веточки, дал Алине и Алёше – отгонять комаров. Так и шли минут двадцать, углубляясь в лес, разгоняя комаров, но не теряя из вида речку вдали справа, дорога плавно поднималась вверх.
Наконец, подошли к невысокому забору из старых, покрытых мхом досок, покосившемуся, местами упавшему на землю, за которым виднелись какие-то строения. Зашли и оказались на территории старой заброшенной турбазы. Вдоль её центральной, широкой, когда-то асфальтированной, а сейчас почти полностью разрушенной дороги стояли с двух сторон небольшие деревянные покосившиеся домики с маленькими верандами и большим, заколоченным прогнившими досками окном. Домики стояли близко друг от друга, с двух сторон от дороги и под углом к ней.
– Ребята, – Алинка остановилась, – смотрите, они стоят, как корабли на причале.
– Ты о чём? – спросил Алёша.
– Вот эти домики, эта дорога… они как корабли и причал.
– Правда, Алинка, я сколько раз здесь был и не замечал, – Миша внимательно посмотрел на двоюродную сестру.
Столбики-фундаменты домиков были полуразрушены, осторожно поднялись по старым ступенькам, подёргали несколько дверей – забиты. В центре турбазы было двухэтажное деревянное старое здание – то ли бывший клуб, то ли столовая. Жизнь ушла из этих мест, всё опустело и исчезало со временем.
– Здесь есть причал, когда-то лодки стояли, пошли, – Миша повёл Алину и Алёшу вниз по узкой лесной тропинке, круто спускающейся вниз к речке.
Ребята оказались на старом стадионе – здесь были баскетбольная, волейбольная и даже теннисная площадки, но все они заросли мхом, молодыми деревцами, кустарником и разрушались постепенно. Около речки была лужайка, к ней примыкал небольшой причал с тремя шатающимися скамейками на нём. Построенный из досок причал был скреплён по периметру железным уголком, который, видимо, и удерживал пока всё это сооружение от падения. Осторожно прошли, сели на скамейки, и перед ними открылась удивительная картина.
Речка в этом месте становилась широкой, делилась на два рукава, а в центре её образовался остров, довольно большой, весь заросший уже высокими деревьями – наклонившиеся ивы вдоль берегов, берёзы в глубине, ели и даже пышные раскидистые лиственницы.
Недалеко от причала от острова к берегу шёл изогнутый деревянный мостик, он придавал особую живописность и даже сказочность этому заброшенному уголку. Речка здесь успокаивалась, течения почти не было, и на поверхности воды, расположившись в середине больших тёмно-зелёных округлых листьев, цвели жёлтые кувшинки и белоснежные лилии.
– Как красиво! – воскликнула Алинка.
– На остров пойдём завтра, – как будто читая её мысли, сказал Миша.
***
На следующий день сразу после завтрака ребята перебежали поле, перешли глубокий овраг, и бегом, бегом по лесной дороге до заброшенной турбазы, потом вниз по крутому склону – вот и лужайка, и остров, и старый причал. По изогнутому деревянному шатающемуся мостику перешли на остров, среди высокой травы змейками шли в разные стороны несколько дорожек-тропинок.
– Кто же здесь ходит? – почти с испугом спросила Мишу Алинка.
– Рыбаки, здесь рыба клюёт хорошо, особенно подлещики, но можно и окунька поймать. Не бойся…
– А что это? – Алинка крепко взяла Мишу за руку и не хотела отпускать.
Ребята шли вдоль берега острова и увидели поваленные на землю стволы деревьев разной толщины, и все они были остро заточены с одной стороны, как карандаши, какой-то неведомой «точилкой», видны были даже вертикальные бороздки-срезы, и все эти деревья лежали одинаково – острой стороной вглубь острова, а кроной, упавшим стволом – в сторону воды.
– Это бобры. Здесь живут две семьи бобров, – успокоил Миша, – они питаются древесиной, пилят упавшие стволы деревьев, вымачивают, прячут в норках, потом едят как консервы.
– Ты видел? – спросил Алёша.
– Бобров видел. Серьёзный зверь, хотя на вид забавный. У него передние зубы очень крепкие и сильные – видели, как обтачивает он деревья.
– Покажи нам их норки.
– Нет. У них вечерний образ жизни, сейчас спят. И потом, это опасно.
В одном месте недалеко от берега ребята увидели высокую старую иву, подточенную бобрами почти до середины по всей окружности ствола – вот-вот упадёт, но толщина её была такая, что когда дети взялись за руки втроём, то с трудом смогли обхватить дерево.
– Вот это бобры! – ахнула Алинка.
И снова на следующий день были на острове, обследовали его. Нашли большую земляничную поляну. Миша сорвал красивую веточку с крупными земляничками и одним белым цветком на ней, протянул Алинке, как-то особенно посмотрел на неё, отчего она покраснела и сердце забилось, забилось.
– Тебе.
– Спасибо, – и опустила глаза.
Сели на корточки, собирали землянику, сладкую, ароматную, спелую и ели. Алинке хотелось угостить Мишу, а Миша хотел всю землянику отдать Алинке.
Потом пошли на причал купаться. Разделись. Ребята в плавках, а Алинка… она в раздельном купальнике в мелкий цветочек, ещё не девушка, но уже не девочка. Худенькая, среднего роста, светло-русая, в веснушках, курносая, чем-то похожая на Мишу… только глаза голубые. Закрутила косу, заколола на затылке шпильками… видела, как смотрел на неё Миша. Застеснялась и прыгнула с причала, разбежались круги по воде, брызги в разные стороны, взлетела сойка на берегу. Ребята тоже прыгнули в воду, встревоженные чайки поднялись вверх и кружились над речкой, ждали, когда всё успокоится.
Наплавались и упали на тёплые, даже горячие от солнца доски… ни о чём не думалось, почти не говорили… Просто лежали и смотрели, как пролетала бабочка или стрекоза, как она садилась на кого-то, и её можно было легко взять рукой за прозрачные крылышки, как высоко летали ласточки, говорили, к хорошей погоде, как медленно двигались облака на небе… таком голубом…
«…голубом, как Алинкины глаза», – мечтал Миша.
– Возьмём сегодня удочки, рыболовные снасти, – сказал Миша на следующий день..
Он был знающий рыбак, а Алёша ничего не умел, и Миша терпеливо объяснял брату рыболовные хитрости.
Пришли на причал, закинули удочки, ждали. Алинка расположилась чуть вдали, чтобы не мешать, рыбалка её совсем не интересовала, взяла книжку из дома, но не читалось. Она сидела в жёлтом сарафане в горошек, белом платочке, и болтала ногами по воде, потом легла на спину и смотрела в небо… хорошо…
Вдруг Алинка услышала какой-то шорох рядом, нет, не показалось, она притихла. Через минуту-две на самый край причала из воды вылез маленький симпатичный зверёк с ясными умными глазками, коричневой шерстью, с длинным плоским хвостиком и смешными лапками. Алинка хотела дать знак Мише и Алёше, но они уже увидели его, тоже затихли и смотрели на пришельца. Это был маленький любопытный бобрёнок, он стоял, не двигаясь, несколько минут, смотрел, изучал, потом решил, что пора домой, ловко нырнул и быстро поплыл к острову.
– Какой хорошенький, – улыбнулась Алина.
– Он в этом году родился, – ответил Миша.
Поймали в тот день трёх подлещиков и четырёх окуньков.
А завтра снова бегали на остров. Когда шли обратно, забрели на полянку, сплошь заросшую незабудками, будто небо опрокинулось на землю и расцвело маленькими голубыми цветами. Алинка хотела набрать букет, но подумала, что завянет и не стала рвать.
– Незабудка – от слова «не забудь», – сказала она неизвестно кому, но оглянулся Миша.
Потом пришли на причал, с собой взяли первые яблоки – белый налив, удочки, книжки, но на этом волшебном месте хотелось только мечтать.
Однажды увидели взрослого бобра, только голову и часть туловища, он плыл с берега на берег, зажав в зубах большую ветку ивы с листочками на конце. Издали казалось, что он тащит букет для своей бобрихи… так Миша сказал.
Пошли первые колосовики, аккуратные, со светло-коричневой шляпкой, растущие семейками. Миша знал разные грибные места, но пошли на причал.
На заброшенном стадионе была когда-то давно посажена липовая аллея, место солнечное, открытое, речка рядом. И почему-то именно здесь, под высокими старыми липами, как на грядке в огороде, росли первые подберёзовики, подосиновики и колосовики – хоть каждый день собирай урожай. Маленькие грибы не трогали, давали подрасти, а чуть позже собирали на грибной суп, на жаркое с грибами, луком и картошкой.
Зацвела вдоль речки и около старого причала белая пушистая таволга и розовый кипрей, тётя Вера заваривая кипрей, называла его иван-чай. Отцвёл дикий шиповник и распускалась липа, и всё сильнее становился её медовый сладкий запах. Как-то Миша, Алинка и Алёша сидели на скамейке под цветущими липами и говорили о будущем.
– Я в высшее военное училище поступать хочу, может быть, в пограничное, но вначале хочу в Суворовское училище пойти, – сказал Миша.
– Там конкурс большой, – сказал Алёша и задумался.
– А я в медицинский институт, давно решила, – сообщила Алинка.
По вечерам разводили костёр на участке, недалеко от дома, приходила тётя Вера, иногда дядя Коля, смотрели на огонь, языки пламени завораживали, разговаривали, и всем было тихо и радостно. Иногда были особенно ясные звёздные ночи, короткие, как белые ночи на севере. В одну из таких ночей, когда все стали расходиться, к Алинке подошёл Миша и протянул ей небольшую коробочку.
– Возьми… на память обо мне.
– Спасибо.
Она открыла коробочку, там лежал солдатик, сделанный из металла и покрашенный разноцветной краской. Краска местами стерлась, местами её не было совсем, видно было, что солдатик старый и любимый.
– Зачем, оставь себе, тебе же он дорог.
– Это для тебя.
Вскоре приехал папа и отвёз Алину и Алёшу домой.
В августе того же года Миша поступил в Суворовское училище, потом в высшее военное училище погранвойск, а потом он оказался в одной из горячих точек.
…родные получили «груз 200»…
В книжном шкафу Алины стоит солдатик, сделанный из металла, когда-то давно покрашенный разноцветной краской, теперь уже исчезнувшей, рядом с солдатиком фотография, на ней – старый причал, Алёша, Алина, Миша и счастье.
Просто было лето…
Дивеево, акафист и серёжка
Анюта – Анна Петровна – собиралась в Дивеево. Готовилась к поездке старательно – читала литературу о Дивеевском монастыре, Четвёртом Уделе Богородицы, о батюшке Серафиме Саровском, выучила новые молитвы, просила благословения, и многое другое входило в это понятие «готовилась», многое из того, что остаётся только в твоей душе и только для тебя. Сначала думала ехать с подружками, но что-то её остановило. Поняла Анюта, что ехать в Дивеево нужно только одной, что необходима в этой поездке молчаливая сосредоточенность и… тишина… тишина в себе самой.
Ехала Аня с паломнической службой из Москвы на поезде до станции Сатис, куда прибывали в пять часов утра. За окном – тёмное, хмурое осеннее утро и лес, лес… без признаков жизни.
«Как же я? – испугалась Аня. – А вдруг автобуса не будет, и станция в глухом лесу…»
На станции из своего почти пустого вагона выходила она одна, однако, сойдя с поезда, увидела вдали автобус и небольшую группу людей, идущих к нему от поезда. Собралось пятнадцать человек – были две семьи с детьми, несколько молодых девушек, юноша, женщины и мужчины средних лет.
Экскурсоводом была симпатичная стройная девушка, звали её Мария, и весь путь до Святого источника она вдохновенно рассказывала о Серафиме Саровском и Дивеевском женском монастыре. В Святой источник окунулись с молитвой три раза те, кому это было по силам – на улице утром было ноль градусов, но все набрали святой воды, а потом поехали размещаться по гостиницам.
Весь этот день и следующий до обеда паломники были у святых мощей Серафима Саровского, у иконы Умиление, ходили по Канавке Божией Матери, стояли на службах, были во всех Соборах Дивеевского женского монастыря, который удивил и покорил своей красотой, чистотой, ухоженностью, обилием цветов и садов, больших и маленьких. Погода наладилась, прояснилась, и на фоне голубого неба сверкали золотом купола великолепных соборов монастыря.
На следующий день после обеда поехали в Арзамас, по дороге Мария рассказывала об истории этого удивительного города, одного из центров Православия. Заканчивая свой рассказ, добавила:
– Мы будем в нескольких Храмах Арзамаса, а также в женском Николаевском монастыре, где увидим особенную икону Божией Матери Избавления от бед страждущих, которая прославилась чудом: на прежде почерневшей иконе высветились и очищаются постепенно лик Спасителя и Матушки Божией. Советую всем купить эту икону и акафист к ней, а дома читать, читать, читать этот акафист, – и добавила: – со временем поймёте и вспомните меня.
***
Анюта вернулась в Москву, потрясённая увиденным, услышанным и тем, что стало ей понятно… кажется, понятно.
Москва закружила заботами, делами, хлопотами. В день приезда домой, после обеда Аня обнаружила, что потеряла одну серёжку, которая как-то выпала, хотя в другом ухе была, и выпала серёжка именно сегодня и именно дома. Анюта искала серёжку везде, где только можно – и пол по всей квартире вымыла, и вещи свои пересмотрела, не нашла.
Вспомнив про акафист, Анюта стала читать его, и снова читала и читала. Она была не просто расстроена, а плакала весь день, не спала ночь, и на следующий день не могла никак успокоиться. Эти серёжки в детстве подарила Анюте её крёстная из Ленинграда, которую она очень любила. Было у Ани много разных серёжек – дорогих и не очень, которые дарили, и те, что покупала сама, но все эти серёжки она наденет, поносит и снимет, а эти, небольшие, скромные, с маленьким сине-фиолетовым камешком она почти не снимала, а просто жила с ними. Вот поэтому и не могла Анюта никак успокоиться и все думала:
– Найти бы серёжку… иду, а она на полу… вот чудо было бы!
К обеду на следующий день забежал старший сын – проведать, перекусить. Анюта мыла посуду и вдруг услышала:
– Мама, а что это серёжка в твоей комнате на полу валяется!
– Подожди, подожди, я посмотрю!
Анна вбежала в комнату – недалеко от дивана, почти в центре комнаты на полу лежала её серёжка… да, это была её пропавшая серёжка… она расплакалась от радости, а потом подумала: «Как же так? Я ведь пол мыла так тщательно… это акафист…»
И потом, в течение года Анюта читала акафист иконе Божией Матери Избавление от бед страждущих постоянно, это стало правилом, а перед важными и ответственными моментами обязательно, и как-то всё благополучно завершалось и решалось.
На следующий год также осенью Анюта снова была в Дивеево и Арзамасе, экскурсоводом была женщина средних лет, но Анюта вспоминала Марию. Выходя после вечерней службы из Арзамасского Николаевского женского монастыря, на площади Анюта вдруг увидела Марию – экскурсовода прошлого года и та узнала её. Они встретились как давние знакомые, обнялись, а Мария, улыбаясь, спросила:
– Читали?
Анюта поняла, что значило «читали?» и всё рассказала – про серёжку и про другие хорошие события.
– Спасибо, Вам, Мария, спасибо.
– И вам спасибо за рассказ. На всё Воля Божия.
Анна понимала, что нельзя ставить рядом слова Дивеево, акафист и серёжка. Но она была простым грешным человеком и, вспоминая Святое Дивеево, Анна теперь вспоминала и свою простенькую серёжку с маленьким синим камешком.
Ирония «Иронии судьбы»
Каждый год 31 декабря в восемь часов вечера они звонили друг другу, она из Ленинграда-Петербурга, он из Москвы. Звонили, поздравляли, поднимали бокал вина за прошлое, настоящее, будущее, шла «Ирония судьбы», они знали этот фильм почти наизусть. Так было. Но в этом году вмешался чужой, и хрустальный Замок был разрушен.
– Потому что хрустальный? Надо было деревянный? Из бруса что ли?
« …производство деревянных домов из профилированного и клеёного бруса по индивидуальным проектам. Профилированный брус массив – 145 х 195 мм, 100 х 100, 100 х 80".
– Тебе какой больше нравится? 100 х 100?
«…мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я больна не вами…»20
– Нет, наверное, 145 х 195 прочнее, да? И теплее.
«…что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами…»
На подоконник прилетели три синички, бегают, суетятся, мурлычат:
– Ци-ци-фи, ци-ци-фи…
– Хлебушка покрошить что ли? Нет, лучше семечек бросить. Открою форточку, а вдруг они улетят?
«…и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами…»
– Вот уже две синички улетели, осталась одна и стучит в окно, внимательно изучаем друг друга.
«… спасибо вам и сердцем и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите…»
– Кто-то известный давно рассказывал: «Два поезда идут из пункта А и пункта В по одной полосе в одно время навстречу друг другу и… не встречаются. Почему? Рассказчик делал многозначительную паузу и отвечал: не судьба!»
«…за солнце не у нас над головами…»
– Ипполит уже под душем трёт спину мочалкой… в пальто. Мне нравятся деревянные дома в стиле шале… хорошо, не сердись, пусть 145 х 195.
«…за то, что я… увы…»
Они знали друг друга так давно… ей казалось, от сотворения мира, он говорил сто десять тысяч лет. Встретившись в далёкой юности, когда рождается первая любовь, они потерялись в бурном водовороте жизни. Но неисповедимым путём однажды, семь лет назад, случайно и радостно они встретились вновь – во всемирной паутине интернета и стали общаться. Но так было до… чужого.
Легендарный фильм закончился. Закончилась и Ирония Судьбы, начавшаяся тысячу лет назад, когда вспыхнула на долю мгновения яркая маленькая точка в чёрной бесконечности Вселенной.
Та сентябрьская ночь на берегу большого озера среди хвойных северных лесов была необычно тёплой и ясной. Они разворошили стог сена, стоящий на поляне вблизи озера, расстелили сухую душистую траву на тёплую землю, накрылись его большой телогрейкой. Пахло свежестью близкой воды, сеном, хвойными ветками и сосновой смолой. Над ними в Божественной красоте Мироздания распахнулось всё небо миллиардами звёзд, ярких, ослепительно недоступных, далёких и близких.
– Протяну руку, и звезда в моей ладони, – он обнял её, прижал к себе, – ты звёздочка моя ясная.
– Смотри, вспыхнула яркая маленькая точка, вот здесь – слева от Большой Медведицы.
– Я видел.
– Звезда упала, ещё, ещё, ещё… звездопад!
– Звездопад! Я загадал.
– И я загадала.
– Люблю наш старый дом, он помнит родителей, и яблоневый сад, особенно в мае, когда цветущие, белые, пушистые ветки, пахнущие весной и манящим обещанием счастья – прямо в открытые окна, прямо на веранду. И сирень под окном, и огромный куст шиповника, цветущий с мая по октябрь. Да-да, надо рассадить, ты прав. А летом намнёшь в миску клубнику размером с яблоко с сахаром и молоком, дети любят: «Мама, дай ещё!» На ужин малосольные огурчики со своей грядки с картошкой, укропом: «Мама, как вкусно!» – и стучат, стучат ложками. Кричу им: «Вы на дуб высоко не забирайтесь, видела, лестницу смастерили, я всё знаю, смотрите у меня!» А осенью – яблоки, румяные, душистые, сочные – угощайтесь! Люблю вечером перед закатом посидеть с тобой на крыльце. Тихо. И такая благодать…
Муж обнял за плечи, вспоминали, вспоминали…
Всю жизнь они были вместе. Телефон замолчал. Навсегда – она поменяла номер и адрес электронной почты. Два поезда из пункта А и пункта В, идущие по одной полосе, в одно время навстречу друг другу не встретятся.
Никогда.
Как надо – не надо сдавать экзамен
Илюша учился в известном московском вузе. В те давние времена каждая семья в нашей стране выписывала газеты и журналы, в том числе «Науку и жизнь», «Технику молодёжи», «Литературную газету», «Иностранную литературу» и многие другие, а книги и собрания сочинений трудно было купить, представляете, трудно было купить книги, таким спросом они пользовались… и в библиотеках за хорошими книгами были очереди.
Институт Илюши был техническим, изучать приходилось не только математику и физику, которые он хорошо знал и любил, но и многочисленные технологии – узкие специфические предметы, которые, безусловно, нужны, но учить их…
На третьем курсе был у него один такой узкоспециализированный предмет технология… чего-то важного, целый семестр. Вёл этот предмет преподаватель, внешне очень похожий на человека в футляре, всегда одетый в строгий, наглухо застегнутый тёмный костюм и белую рубашку с галстуком, был он аккуратным, строгим и педантичным, звали его Василий Петрович.
На беду всех студентов-прогульщиков преподаватель этот читал не только лекции, но и вёл практические занятия. Илюша, посетив ровно две лекции и столько же практических занятий, понял, что он не выдержит… всякие-разные сцепления, соединения, подключения, схемы… не выдержит… ну вот скучно было ему… бывает… И он перестал ходить и на лекции, и на практические занятия. Вообще перестал.
Илюша попросил старосту группы Наташу отмечать по возможности, что он есть на практических занятиях и лекциях… ну хотя бы иногда. Но вскоре выяснилось, что Василий Петрович сам лично отмечал студентов на своих лекциях и на практике. Первое время отсутствие Илюши он, казалось бы, не замечал, но ближе к середине семестра староста Наташа стала всё чаще и чаще при встрече с Илюшей говорить:
– Тобой интересуется Василий Петрович… тобой интересуется Василий Петрович…
А к концу семестра это её «тобой интересуется Василий Петрович» стало звучать как первые молнии на фоне мрачных туч, готовых разразиться раскатами праведного грома и гнева. Но Илюша всё так же не ходил к Василию Петровичу ни на лекции, ни на занятия.
Приближалась сессия, и он понял, что впереди его ждут тяжёлые времена. Соседняя группа сдавала эту узкоспециализированную технологию на пять дней раньше, чем группа Илюши. Он пришёл на экзамен к соседней группе, взял у аккуратных девочек, сдавших экзамен, конспекты лекций Василия Петровича, а также, что было более существенно, узнал, какие дополнительные вопросы задавал преподаватель. И выяснилось, что больше всего Василий Петрович любил спрашивать формулу какого-то хитрого, но очень важного сцепления-соединения-закругления-узла.