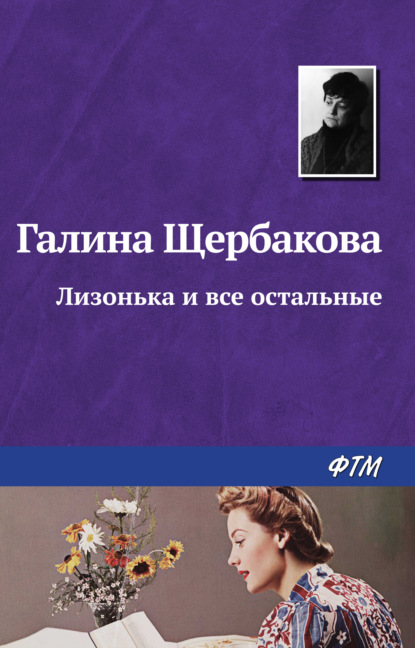По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лизонька и все остальные
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ё-мое! – сердито крикнул Никифор и шуганул призадумавшуюся лошаденку. – Ты еще мармеладу мне предложи!
Теперь Митя знал, как умрет брат. Он видел, как на его спине растеклось широкое, черное на восходящем солнце пятно. Тут надо сказать, что видения Мити были безгласные и бесшумные. Он только видел, но не слышал. В этом была некая трудность, потому что он, например, не знал, кого зовут умирающие дочери, и что они шепчут в свой последний момент, и какие слова кричит убиваемый ногами Колюня. И откуда был выстрел в Никифора, он не знал. С какой стороны света… Вот беда так беда. А ты, брат, говоришь – мистика… Пятно-то было липкое, липкое…
Нюра лежала высоко на подушках, розовая, чуть опухшая от сна, и улыбалась.
– Такой сейчас сон хороший видела. Будто волос расчесываю густой, густой, это к деньгам, Митя. А тут входит Ниночка и – не поверишь – вся, вся, извини, в говне, с головы до ног… Это тоже замечательно, Митя, к большому Ниночкиному богатству. Ой, как я люблю хорошие сны! После них так легко делается, так легко!
Нюра аж жмурилась от удовольствия.
– Учиться ей надо хорошо, а она ленится, – ответил Митя, удивляясь и потрясаясь человеческой природе. Кто им это все показывает, кто?.. Сны? Что это все есть?
Три дня он ходил сам не свой – мысленно хоронил брата. Все сокрушался – а костюм у него смертный найдется, чтоб не стыдно было положить? Все-таки Никифор – человек непростой, революционер с девятьсот пятого года. Обувь тоже должна быть правильной. Сообразят хоронить в старом, а то еще и в сапогах. А туда надо в чистой обувке. В тапочках. Вот так размышляя, он навсегда распрощался с братом и даже успокоился. Поэтому Нюра через год очень удивилась, когда он задумчиво сказал:
– Могли б сообщить, где заховали. Большевики называется!
– Кого? – спросила Нюра.
– Да я все про Никифора.
– Митя! – закричала она. – Чего ж я про это не знаю?
Тут уже растерялся Митя. От своих слов как отопрешься, а двумя смыслами их не перетолкуешь…
– У меня есть опасение, – осторожно сказал он. – Давно не объявлялся.
Нюра замахнулась на него.
– Тьфу на тебя, тьфу! Ты накаркаешь, идиот, разве ж такое можно вслух!
А Никифор через какое-то время возьми и приедь. На той самой лошадке, такой же худой, вроде вчера был… Ниночка уже семилетку должна была кончать, но осталась на второй год, потому что все интересы лежали у нее в другом, чем школа, направлении. Ваня Сумской, футболист и красавец, водил ее пару раз в чистое поле за терриконы, и приходила она оттуда в мятой и перекошенной юбке, в результате чего Колюня, младше ее на полтора года, по учебным классам ее догнал. Ниночка расстроилась, напилась каких-то таблеток. Нюра просто спятила от страха, а Дмитрий Федорович как раз был абсолютно спокоен. Знал, не умрет Нинка. Поэтому отношения к дочери не смягчил и всыпал ей как следует и за Сумского, и за отставание в учебе, и за таблетки. Ишь, распустилась дура! Какой пример Лелечке, которая в школу только-только собирается. Правда, она, умница, сказала ему:
– Я, папуся, буду учиться хорошо, меня никто не догонит!
Так оно и было всю жизнь.
В этот трудный для семьи момент и возник Никифор.
– Что ты на меня смотришь, будто я с того света явился? – спросил он.
Митя тогда собрал все свои растраченные в воспитании детей силы и ответил:
– Посмотришь тут и не так…
Рассказал про неприятности с Ниной, Никифор взялся поговорить с девочкой, брату же попенял:
– Это результат вашего мещанства в семье. Результат отсутствия цели. Вы с Нюрой – люди без полета, а наше время требует труда и крыльев. Надо Нине идти на производство, рабочая среда свое дело сделает. Или в сельское хозяйство. Начинается коллективизация, Митя, новый замечательный и заключительный этап революции. Кончились поблажки и отступления. Теперь прямая, и вперед.
Никифор был в этот момент даже красив своим вдохновением. Прошлый раз худоба и чернота заставляли думать, что и ест он плохо, и живет без пригляда, сейчас же на ум приходило другое: ничего ему такого и не надо, потому как счастлив он не куском хлеба, не новым пиджаком, а внутренним счастьем, что и есть главное. Так что сначала Дмитрий едва признал его как пришедшего от покойников, а потом подумал: эти худые и черные – они куда живучей и всех полных и розовых переживут.
Потом он снова провожал Никифора ранним утром, на этот раз уехал тот спокойно, от выстрела в спину набок не заваливался.
Пока Дмитрий шел в дом, он твердо решил: может, Ниночка и не лучшая дочь, а вот ломать ее жизнь через колено он не позволит… И не отдаст он ее ни на производство, ни в новую колхозную жизнь, это неправильно – девочек на тяжелые работы. В корне! У Никифора нет своих детей, поэтому он чужими так разбросался. Хотя какие ж они ему чужие? Племянники! Родней родных, тем более, если своих нет! Но чего ждать от человека, который свою жизнь под ноги любой революционной идее бросит? Чужую жизнь тем более бросит! Может, в этом все дело? Раскидался, чернявый, раскидался! Моих детей не трожь… Как-нибудь сам дотумкаю… Ниночка, хоть и с опозданием, а кончит семилетку, пойдет в контору. Им нужны делопроизводители, а она девочка грамотная, почерк у нее вообще каллиграфический. Для женского пола немало. А Колюню бы хорошо учить дальше, на инженера, он смекалистый, задачки у него от зубов отлетают… Про Лелю еще рано говорить, что там получится. Как она ему сказала: «Меня, папуся, никто не догонит!» Что же касается коллективизации, то, на его взгляд, это новое дело – дело темное. За одной кобылой всем кодлом?.. Что-то тут не так… Он не сторонник… Его отец был крестьянин, из бедняков бедняк всю жизнь, но скажи ему «объединяйся!», он же бы тебя двинул! Он как говорил: «Всем чтоб одинаково – дурь. Это нарушение законов природы. Природе нужны все. И богатые, и бедные… И хищник, и клоп, и райская птица. Все нужны в целом».
Это он Никифору говорил еще в девятьсот пятом, когда тот только-только отравился революцией. Никифор из дома ушел, а он, Дмитрий, отцу поверил, хотя и было сомнение: сам отец боролся в хате с клопами, а по его логике – пусть бы жрали? Но ведь нельзя понимать буквально… Отца уже нет, и матери нет… Не проверишь, как бы отец воспринял коллективизацию… Для таких, как он, затея… В конце концов, что такое прогресс? Это стремление сделать так, чтоб бедным стало лучше. Разве это плохо? Разве это не по-божески? Значит… А ничего не значит! Не его это ума дело. У него на руках трое детей. Их надо вырастить и на ноги поставить. А бросать в трудности, чтоб крепче были, – на это у него одно отрицание. Вот и все! Если кто спросит, он так и скажет: на это у меня отрицание.
Явление живого Никифора затмило то видение, которое было с липкой кровью. Пришла даже странная мысль: атеистическое и революционное изничтожало неясное и ирреальное не по отдельности, а по сути… То, чего не могло быть, того и не могло быть. Не может человек знать свое будущее, а тем более – чужое. Значит, и думать об том нечего.
Тем более что такое началось, что о постороннем не то что не думалось, постороннее просто в голове не помещалось. Раскулачили Нюриного отца, а он только-только из нищеты выбился. Два года как стал жить как человек. Детям, младшим за Нюрой, сделал пристройки к дому, «на будущую жизнь» говорил. Жене молодой купил комод цвета «бордо-бордо с медью», а себе – о! себе! – он сделал настоящий мужской подарок – двуколку. Чтоб в Бахмут ездить. Выезд был, конечно, излишеством. Но в Нюрином отце всегда было это желание – «сделать людям в нос». Вот, мол, гляньте, как я на коняке, как царь, еду. Вполне можно было и без нее. У других же не было. Эти два колеса на его двуколке по кличке «Беда» сделали свое дело… Ведь что-что, а независтливым наш народ не назовешь… Никак…
Дмитрий это качество Нюриного отца – «поперуду танцювать» – осуждал. Ну, вылез? Или, вернее, выехал старый дурак? А дальше? Я корми твоих детей? Дело в том, что мать Нюрина умерла давно, отец женился во второй раз, и было у него ко времени двуколки трое детей, девочки-близнецы, ровесницы Ниночки, и сын Евдоким, Дуся, ровесник Колюни. Нюрина мачеха была женщиной красивой, но за ней наблюдалось два греха – легкий алкоголизм и такая же нетяжелая вористость. Бывая в гостях, Григорьевна никогда не уходила оттуда с пустыми руками, ну, там ложечка, ну, шматочек сала, что тихо лежал на подоконнике, приготовленный для борща, или ситцевый платочек, который хозяйка с себя скинула, простирнула в одной воде и на веревку, на свежий ветер, а сама даже другой не надела, ждала, пока этот протряхнет, слово за слово, а платочка нету. Григорьевна, оказывается, заходила за солью, на минуту во двор вступила, а где он теперь, тот платочек, что был на веревочке?
– Григорьевна, ты случаем не бачила?
– Бачила. Высив. – Глаза у Григорьевны круглые, цвета чудного – от серо-зеленого тусклого до чистейшего салатного, яркого. Так вот, брешет Григорьевна с яркими салатными глазами.
Когда отца Нюриного увозили, Григорьевна с детьми на соседнем хуторе спряталась, вернулась в разоренный двор, повыла, поорала и дала знать Нюре, что на нее, старшую дочь, одна надежда. Нюра сказала: «Вот наглая сука. Комоды ей были нужны и фаэтоны». Но, тем не менее, Дмитрий в деревню пошел. Теперь там были слезы пополам с разрухой, хаты раскрыты, пацаны заглядывают людям в окна, это Дмитрия особенно поразило. Кто ж это позволил такие подглядки? Как можно? И никто не остановит детей, вроде так и надо, и можно. Решено было забрать насовсем брата Дуську, а женская часть пусть сама по себе выкарабкивается. Уже по дороге – пешком шли, недалеко, километров восемь – обнаружил Дмитрий, что пропал у него бумажник. Денег в нем было меньше рубля, а бумажник сам по себе хороший, кожаный.
– От, черт! – ругнулся Дмитрий и посмотрел назад. Деревня уже вся за пригорком осела, неужели ж поворачивать? А как он докажет? Еще такого случая, чтоб Григорьевну за черным делом застали, не было, всегда кидались люди, когда ее и след простыл, а глаза ее салатные смотрели так чисто, что ничего не оставалось, как ей же, воровке, говорить:
– Проклятая цыганва! Опять, небось, проходила мимо.
– Проходила! Проходила! – Салатные глаза глядели так прямо, так ярко, что приходилось свои опускать и назад идти, будь ты проклята, Григорьевна, чего тебе не хватает? Вон выезд тебе мужик наладил, сидишь в двуколке широким задом, как какая-нибудь губернаторша! Плюнул Дмитрий на кошелек и пошел дальше, даже на Дуську не обиделся. При чем мальчонка, если у него мать такая негожая? Пусть живет. Где трое, там и четверо.
Но оказалось, что слова эти для хорошей жизни, а не для той, что подкрадывалась. Когда в тридцать третьем обрушился мор, то Дуся, конечно же, был, лишним. Тем более что Ниночка уже вышла замуж и родила Лизу, и надо было делать выбор, свой или чужой.
Он так и сказал Нюре:
– Надо делать выбор.
Дуську вернули матери, которая устроилась к тому времени вполне по-своему, даже хорошо. Она гадала людям. Толпой к ней шли со всех мест. Полная неясность жизни заставляла к ней кидаться с проклятым вопросом: «Дальше-то, дальше что с нами будет?»
Замечательная гадалка была Григорьевна. Она не то чтобы обманывала, она щедро, всем поголовно предрекала беду. Беда в ее предсказании была не просто большой, она была прямо-таки вселенской. Но людям, как ни странно, такая беда нравилась больше. Ее принимали легче. Даже радостно. Григорьевна, к примеру, обещала: готовься, голубок, к смерти, на колеснице она к тебе идет от самой далекой звезды, а человека всего ничего – посадили. Это плюс или минус? Тебе нагадали потерю всего, а у тебя только корову забрали. Это как?
– Брехуха, брехуха! – говорили люди, радуясь, что жизнь обвесила их в беде на целых там сколько-то граммов… Или чем измеряется горе?
Дуська был ей ни к чему, потому что был он мужского племени, хоть и звался, можно сказать, женским именем. У нее с дочками-близняшками был свой уговор, своя тайная вечеря, можно сказать. Дочки ей помогали. Они втроем играли в ведьминство красиво, истово, и такого, что нет у них молока или хлеба, даже в самые страшные дни не было. Мог ли им пригодиться лохматый мальчишка с босыми, неделями не мытыми ногами?
Григорьевна вернула Дуську назад с обязательством давать что-то на его пропитание. Так вот они все выжили тогда благодаря этой чертовой брехухе и ведьме с салатными глазами, ее помощь плюс деньги, полученные за обручальные кольца в торгсине Бахмута, помогли не дойти до водяной опухлости. Получалось, что от этой треклятой воровки и гадалки была в их жизни выгода. Хотя, конечно, что там говорить, Дуська подарком не был.
А потом пришло время, когда Колюня и Дуська уже учились на рабфаке, и думалось, что надо бы и – дальше их учить – смекалистые были хлопцы. Дальше – это большие города, это надо сообразить, какой, лучше – Ростов или Харьков. Или уж замахнуться сразу на Москву? Тогда и пришел на ум Никифор. Вот с кем надо посоветоваться.
Уже начал ходить в Дружковку рабочий поезд. Уже не было лошадиной зависимости в передвижении. Дмитрий приехал в Дружковку под вечер, шел по улице, на которой сам когда-то рос, и умилялся, как оно все стало мелковато, вроде бы улица стала какой-то короткой и приземистой, и домишки все жались к земле, как побитые, и штакетник вокруг них шел такой весь серый и редкий, а посередке двора обязательно жухла сирень, и желтый цвет ноготков шибал в нос и сердце. «Неужели уже старый? – думал про себя Дмитрий. – Сколько ж это мне? Сорок семь лет всего, немного, конечно, но уже и немало. Никифору пятьдесят скоро. Пятьдесят, это ж надо!» Так, в мыслях о возрасте и старости, дошел до родительского дома, где жил Никифор. «Бедолага ты, бедолага, – подумал, увидев дом, – совсем ты вгруз в землю, оконца на земле, считай, лежат». Во дворе крутилась босая баба, что-то дергала в огороде. Неужели, подумал Дмитрий, неужели Никифор обзавелся женщиной? Совсем незнакомый мужик сидел, как у себя дома, на пороге хаты и курил самокрутку.
Странное дело, подумал Дмитрий, это что за люди?
Он снял белую полотняную фуражку, поздоровался.
– Мне, знаете, Никифора…