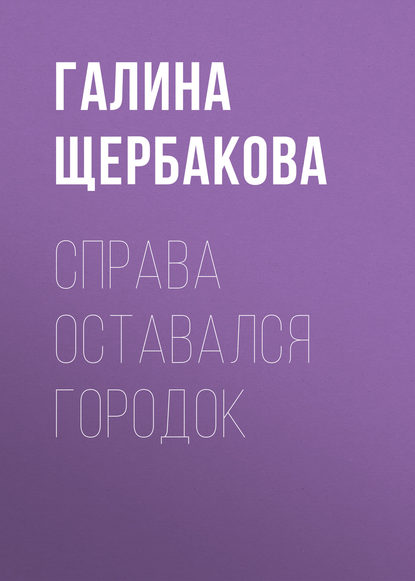По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Справа оставался городок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Больше всех на свете Илья любил отца. С мамой-покойницей было по-разному. И ссорились, и дулись друг на друга неделями, и был между ними гнев, как была между ними и нежность, такая трепетная, что жена Ильи, типично современная девица – практичная и злоязыкая, постукивая сигаретой по краю пепельницы, насмешливо говорила: «У вас отношения любовников – все слишком пылко. Ты меня выбирал по контрасту?» И действительно, тоненькая, крошечная мама, с великим багажом комплексов и предрассудков, вскормленных всей мировой культурой. Мама – учительница литературы даже не по призванию, а по всему своему существу. И ироничная Алена – длинноногая, длинноволосая, длинноносая, вся вытянутая каким-то причудливым замыслом вверх и чуть-чуть влево. Сидит, наклонив голову влево, щурит глаз левый, усмехается левым уголком губ, и нога левая у нее толчковая. И от всего этого такая ни на кого не похожая, что Илья до сих пор от нее в остолбенении. Ну и конечно же, никаких комплексов и предрассудков, хоть с мировой культурой все в порядке – начитана не хуже мамы.
А папа – это папа. А счастье – это папа ведет за руку Натулю. Седой, изысканный папа, которого та же Алена определила соответственно своим ультрасовременным практическим взглядам: «У твоего отца баб могло быть навалом…» Бросить возмущенно Алене: как ты, мол, так можешь? – было бесполезно: она только так и могла. И оттого что отец был выше и лучше всяких представлений о нем, Илье, уже взрослому, казалось, что в жизни, в которой родителей не выбирают, ему выпал самый высокий выигрыш.
Три года назад умерла мама. Совсем еще молодая – ей только-только исполнилось пятьдесят. Умерла сразу, без болезни, все говорили: легкая смерть – заснула и не проснулась. Никак не мог с этим согласиться Илья, и даже не потому, что им всем было от неожиданности в сто раз больнее, а от мысли, что мама, ложась вечером спать, могла что-то не договорить, что-то отложить на завтра и уснула с мыслями о завтрашних делах, а завтра не было. Лучше уж пусть болезнь и привыкание к уходу навсегда, и отпущение грехов, не в том, церковном смысле, а просто для самого себя. Но оказалось, что неожиданная смерть не застала маму врасплох. Через неделю после похорон Илью пригласила задушевная мамина подруга Кира Михайловна Рыжова, тоже учительница, с которой мама дружила с самой войны. У Кимиры – так ее дразнили в школе – было накурено, она открыла форточку, а чтоб не было холодно, включила рефлектор. Ногам было жарко, волосы шевелились от ветра, пахло папиросами, весной и сгорающей на спиралях пылью. А Кимира сидела в кресле, сурово смотрела на Илью и говорила непонятное:
– Я против этого. Была и есть. С бзиками живой Любаши я никогда не считалась, их было слишком много, чтоб принимать их всерьез. Но бзики умершего человека принимают характер воли, наказа… Ты не находишь?
– Тетя Кира, – говорил Илья. – Вы мне доступней, как первокласснику… А то я сейчас соображаю не очень…
– Понимаю, Илья. Я сама не очень… – Она достала из кармана стеганого домашнего халата письмо. – Это тебе от матери, – сказала Кимира, – она его написала три года тому назад, когда ее предупредили насчет сердца. Да, да, да… Предупреждали. А чего ты удивляешься? Всех предупреждают. Не волнуйтесь, не утомляйтесь, копите положительные эмоции, избегайте отрицательных… Вот на всякий случай она и написала это письмо. Я отговаривала ее. Но ты знаешь свою маму…
Илья взял в руки конверт. Маминым небрежным, размашистым почерком было написано: «Илюшеньке». И от этого детского обращения – после седьмого класса Илья потребовал, чтоб его называли только полным именем, – выведенного маминой рукой, Илья заплакал. И Кимира заплакала тоже, но спохватилась первая, задымила жадно и, давясь дымом, заговорила:
– Давай его сожжем, Илья. Никому от него не будет радости. Поверь старой Кимире…
Но Илья, будто боясь, что она вырвет сейчас письмо из рук, разорвал конверт и вынул оттуда листки. А из листочков выпала бумажка, на которой была нарисована извилистая дорога, какие-то не то кустики, не то домики – мама была неважной художницей, и стоял на этой неизвестно куда ведущей дороге крестик. И слова: «Вот тут, Илюша!»
«Сынок! Всю свою жизнь (интересно, во сколько лет я умру?) я собиралась сказать тебе и папе правду. Но не смогла. Дело в том, Илюшенька, что ты вовсе не Илюша, а потерянный в войну мальчик, которого я нашла на дороге, когда бежала из Харькова от немцев. Дело было в сентябре 41-го года, мы ехали дорогой где-то между Горловкой и Константиновкой. Ты спал прямо в обочине. Никого близко не было. Мы – я и бабушка – взяли тебя в машину… Главное тебе скажу: прошла всего неделя, как у меня сын умер. Илюшей его звали. Ему годик был. Я как тебя увидела – так и не отпустила больше. Скажу, правда, мы и назад машиной вернулись – никого и ничего, и вперед проехали. И постояли немного. Много не могли, не знали, где немцы. Бабушка и в стороны ходила, кричала, звала – никого. Так ты и поехал с нами. А документы у меня Илюшенькины все были. Он умер, когда эвакуация началась. Ты, правда, был чуть постарше, наверное, на целый год, и толстый был, а тот Илюша был такой болезненный… Так ты и стал нашим сыном. А папке я ничего не написала. Боялась ему на фронт такое писать, а когда он вернулся и сразу нашел, что ты – копия его брата, так и не хватило духу. И бабушка, умирая, не велела. Хоть сама, пока жива была, все передачи Агнии Барто, все объявления о пропавших смотрела. Но тебя вроде не разыскивали. Прости меня, сынок, за обман. И отцу ничего не говори. Но если тебе захочется когда-нибудь побывать в тех местах, сообщаю все, что знаю. Мы проехали тогда деревню Щербиновку, и справа оставался какой-то шахтерский городок с высокой водонапорной башней. И минут через пятнадцать пошла эта самая дорога, обычная грунтовка, которую я тебе нарисовала. Пыли было очень много, ничего по сторонам не видно, и дорога неровная, поэтому мы поехали медленно и увидели тебя. Ты лежал в ложбинке, под кустом. Это честно, Илюша, близко никаких ни домов, ни селений не было. Ближе всего городок, который мы проезжали. Но это километров десять – пятнадцать. Мог ли ты сам дойти? Когда мы уже ехали с тобой, слева мы еще один оставили городок. Я потом смотрела по карте. Похоже, что это Константиновка. Но оттуда ты совсем попасть на дорогу не мог.
Письмо оставь у Киры Михайловны. Не надо нести его домой. И не надо, чтоб знала Алена. Такие тайны трудно хранить, поверь мне. Тем более от нашего папки, который почувствует, если вокруг него что-то будет. Я сама удивляюсь, как я только выдержала. Прости, Илюша. Если бы ты знал, как сильно я тебя люблю.
Мама».
Странно, но ничего не почувствовал Илья.
– Ну и что? – спросил он у Кимиры. – Что, я их любить буду от этого меньше?
– Вот и я ей об этом, – обрадовалась Кира Михайловна. – Но ты же знаешь ее комплексы?
– Ладно, – сказал Илья. – Я пойду? Письмо спрячьте, зачем оно мне? Бедная мама! Скажите, это могло повлиять на ее здоровье?
– А то нет! Она, бывало, придет ко мне и плачет: а вдруг все-таки где-то жива Илюшина мать? Тебе бы она давно сказала, а вот отцу боялась. Ей все казалось, что он этого не переживет. У них ведь самый первый ребенок умер в тридцать девятом. Круп. А потом второй родился. Тоже слабенький. А тут скоро война… Ну, в общем, все одно к одному. После войны – ты был маленький – они еще хотели ребенка. Родился мертвый. Как я понимаю, у твоей мамы резус отрицательный. Тогда это не проверяли, просто умирали дети. А ты был жив. И отец твой смеялся, что в тебе сила всех его возможных сыновей. Ты ведь действительно был здоровущий.
Во дворе отец играл с Натулей. Она сидела в песке, а он на нее смотрел и что-то ей рассказывал. Они все еще были после смерти мамы не в себе, но отец ни разу не забыл, что Натуле надо варить кашу, надо ее прогуливать. Даже в тот день, когда мама, удивленная и холодная, лежала на диване. Тогда, прислонившись левым виском к двери, как-то по-собачьи скулила Алена, а Илья требовал по телефону, чтоб прислали других врачей, хотя на столе уже лежала справка… А папа вдруг решительно встал и пошел на кухню, потом вышел с эмалированным ковшиком и ласково так говорит Алене: «Детка, а где у нас манка стоит? Что-то я ее не вижу…»
И теперь он все время с Натулей. Он работает в вечерней школе, и день у него свободный. Вот он и возится с ней, ни с кем не деля заботы.
– Привет, папа! Наташке не забыл панамку надеть, а сам сидишь с раскрытой головой…
– Неужели? – Отец рассеянно проводит по волосам. – Это я оплошал, сынок, оплошал. Ну что там Кимира? Все дымит?
– А что ей сделается?
– Ты ходи к ней, ходи, – говорит отец. – Она мамку очень любила, а человек трудный, неуживчивый, кроме мамки, у нее никого не было. И зови ее к нам.
– Я позвал, – врет Илья, весь до боли переполняясь невыразимой нежностью к отцу. – Я принесу тебе шляпу! – И он бежит в квартиру, находит на шифоньере шляпу, берет ее и уже хочет бежать назад, как ловит в зеркале свое отражение – уставший парень с неухоженной подрастающей бородкой смотрит на него в упор. «Откуда ты? Чей?» – спрашивает парень. И молчит Илья, не испытывая от вопроса ни возмущения, ни боли, одно тупое удивление-неудивление. «А может, мальчика-то и не было!» – говорит он вслух. И тот, в зеркале, тоже шевелит губами. «Чего я пришел?» – думает Илья. И тут же, вспомнив, перескакивая через ступеньки, несет отцу шляпу.
– Спасибо, сынок! – говорит тот. – Знаешь, Татка – удивительное существо. Ты – копия мой брат. А она – это почти невероятно – две капли воды прабабка. Моя мать. Никакого беспорядка. Ты посмотри, как она методична и сосредоточенна.
Натуле полтора года. Ей столько, как тому мальчику, что лежал в сорок первом в ложбинке… Боже, какой ужас!
– … Если бы мы знали нашу родословную, а не были бы Иванами, не помнящими родства, – продолжает отец, – уверяю тебя, мы находили бы себя в предках и могли бы быть осторожней, осмотрительней, а может, наоборот, смелей, отважней: человек так плохо знает себя. И тем более то, что он может, на что он способен. Тебе, Илюша, не кажется, что победители – это те, которые сразу себя преувеличили? А? Прабабка Татки была очень решительная женщина. Это обязательно надо помнить.
Знал бы ты, отец, о чем говоришь…
* * *
Начальник милиции, молодой круглолицый парень, с любопытством слушал Илью.
– Сейчас мы все это заполним и начнем наводить справки.
– Послушайте, – умоляюще сказал Илья. – Я, наверное, все не так объяснил. Мне не надо гласности. Если вы всю милицию поднимете – мне это ни к чему. Я хочу тихо. Может все оказаться ошибкой? Может. Зачем же людей тревожить?
– Ты даешь! – удивился начальник. – Как же без людей можно узнать?
– Элементарно. Помогите мне быстро получить справку, не пропадал ли кто из детей в сорок первом на этой дороге.
Он подошел к карте района и авторучкой поставил точку. За три года, прошедшие со дня смерти матери, Илья столько пересмотрел разных карт – геологических, топографических, физических, даже карт погоды, что мог с закрытыми глазами показать любое место в районе.
Начальник милиции нахмурился.
– От людей не скроешь, – сказал он. – Попрошу я в загсе справку, а они меня тут же спросят: зачем?
– Но вы не обязаны ведь им давать отчет?
– А люди дураки? Они тебя не видели? Я тебя заметил, как ты только с автобуса спрыгнул. У нас бородатых еще нет…
– Ну, нельзя тихо, так и не надо, – махнул рукой Илья. – Это, может, и к лучшему. Считайте, что я у вас и не был.
– А мы с тобой ровесники, – будто не слушая Илью, говорит начальник, – может, мы с тобой в одном роддоме рожались? – И обрадовался: – Слушай, а это ведь интересно! Сейчас позвоню в загс, там у меня еще по комсомолу знакомая сидит. – И, поясняя, добавил: – Я тут недавно. Вторым был в райкоме комсомола. – Он поднял трубку, сразу приосанившись, но от серьезности делаясь еще более молодым и круглолицым.
«Неужели я таким же пацаном кажусь? – думал Илья. – Это даже неприлично. В древности, где-то читал, тридцать лет были уже глубокой старостью, а мы все сопляки… Мальчишечки…»
– Занято, – сказал начальник, хотел звонить еще, но тут открылась дверь, и в комнату вошла пожилая женщина с большой плетеной сумкой.
– Извиняюсь, – сказала она Илье. – На минутку… Не лезет, сынок, чертова корзина в автобус. Что ж, я пешком пойду? Ты, Ваня, привези ее вечером на «козле», в крайнем случае скажешь Феде, он знает, как ее сверху привязать. Когда мы за гусями ездили…
– Да ну вас, мамаша, вечно у вас истории! – возмутился Ваня, но Илья видел, возмущение начальника было формальным, рассчитанным на него, чужого, а на самом деле Ваня не сердился на мать и распоряжение ее выполнит неукоснительно и, может, даже с удовольствием. – Послушайте, мама, – вдруг сказал он, – у нас в войну дети пропадали?
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: