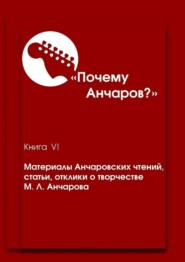По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Aномалия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После работы в особняке Зерниных, Тоня – худенькая женщина в горошистом длинном платье спешила домой, чтобы покормить стариков. Цистерну овсянки, опять наваренную бабкой, ела постепенно сама, но знала, что завтра будет такая же цистерна. «Мама. Кому варите? А сами не едите». – «Нельзя такую сладкую». – «Так не варите. Варите без сахару». – «А как же? Противно». Бесполезный разговор. На дежурство в садик пришла поздно. Огляделась – нет ли щёлок света, не засиделась ли заведующая. Нет. Выключилась стиралка, запиликала. Надо развесить белье. На кухне всё вымыто, стоит приготовленная кастрюля с мытой свёклой. Это сварим за ночь. В холодильнике рыбная котлетка и кефир. Ишь ты. Позаботились. На дежурстве Тоня обычно что-то делала, работала по мелочи. Чинила одеяльца, прищепки ломаные. Потом читала молитвы. Окна садика выходили на площадь. И когда на площади проводили праздник, становилось людно и шумно, дежурить было нервно. А тут вроде всё тихо. Музыка не гремит, ракетами не пуляют.
Около двух почти задремала после обхода. Трах! Посыпались стекла! Взяла рупор и на склад. «Стой, ни с места! Сторож, вызывай полицию». А сторожей, кроме неё, никаких. Два алкаша кинулись назад в окно. После рупора вбежал и залаял Дружок. Ох, и голос у крохотного пёсика! Ну вот, показалось, что он с ней не пошёл. Участковые с площади подъехали, и вот уже всё пусто. Акт составили, фанерой окно закрыли. «Антонина Петровна, когда решётки поставите?» – «Поставим…» Её трясло. Воры метили на сахар-песок, не успели. «Тихо, тихо Дружок. Умница моя». Какой теперь сон. Сварила свёклу.
В четыре светло уже. Пошла участок подметать… В песочнице мадам сторожиха обнаружила толстого, хорошо одетого человека. Светлые брюки, дорогая барсетка. «Вставайте, мужчина. Уходите, пока нет никого. А то придут тут из полиции. Объясняй им». Человек не вставал, только мычал.
По площади проехала с воем скорая. Человек медленно сел, держась за голову.
– Где я?
– В детсадике. В песочнице.
– Вы кто?
– Сторож. Уходим, говорю, уходим.
– Да нет, я спрашиваю – где, в смысле – город какой.
– Воронеж, пригород.
Лицо толстого человека исказилось. Он явно не ждал такого ответа. В чёрных глазах плескалась мука, не выразимая словами. Дружок, склонив голову, тоже скорбно молчал.
***
Почтовый ящик.
Дорогая сестра. Уже начинала, но не договорила тебе про Чехова. Больше стала читать, и в основном, это на ночных дежурствах. Ну что ж, «Чайка» не понравилась, мура и скукота. Я не говорю, что автор дурак, нет, вернее, просто время было другое, сто лет прошло как-никак, по-другому жили, по-другому рассуждали. Но есть там в пьесе персонаж, который мне понравился, это Сорин, он и разговаривает смешно, и сам какой-то странный, но интересный, прикольный мужик.
«Тут тебя так доймут всяким вздором, что ты первого дня бросишься вон…», «талант не пропьёшь…». Очень ёмко, и ярко, и кратко. Смеюсь на этом моменте. А ещё – «у меня никакая наружность, будто я запоем пил…» Теперь если кто спрашивает: «Что с тобой?» отвечаю: «Это у меня наружность такая…»
И он является братом главной героини Аркадиной. Там так и сказано, что он носит чин статского советника и считается добрым, мягким, бесхарактерным человеком, за это врач Дорн называет его старой бабой. «Люди – скучные сущности, следовало бы вашего мужа отсюда гнать в шею. А ведь всё кончится тем, что старая баба Пётр Николаевич и его сестра попросят у вас извинения. Вот увидите».
Вместе с Сориным в усадьбе живёт его племянник Константин, актриса поддерживает племянника, который хочет стать известным. Конечно, несмотря ни на что, мне всё-таки очень жалко Треплева, он вызывает у меня сочувствие. Жалко Треплева из-за пьесы его неудачной и главным образом из-за матери. Это видимо из-за того, что я в его положении всю жизнь была. Всегда существовал какой-то авторитет рядом, который давил, авторитет моей матери Лидии. И меня тоже не любили, меня стыдились, как и его, лишь иногда на меня милостиво обращали внимание, потому, что я глупенькая и болезненная… Моё ничтожество вызывало только жалостливые взгляды. И я тоже от этого страдала, и в том числе в детстве (как и он) на всяких взрослых собраниях. Моя мать всегда считала служение государству главным, она также считала, что учитель должен быть как артист – всегда на виду. Аркадина сравнивала себя с такими, кто всегда на виду. Мать тоже всегда подчёркивала, что она одна и у неё один ребёнок…
«Правда, тебе нужно жить в городе» (Треплев – Сорину). По словам племянника, господин Сорин тоскует в деревне и из-за этого плохо себя чувствует: «Ему нездорово жить в деревне. Вот если бы ты, мама, вдруг расщедрилась и дала ему взаймы тысячи полторы? две, то он мог бы прожить в городе целый год» (Треплев не за себя просит).
«Я прослужил по судебному ведомству двадцать восемь лет, но ещё не жил, ничего не испытал в конце концов и, понятная вещь, жить мне очень хочется. Вы сыты и равнодушны, и потому имеете наклонность к философии, я же хочу жить и потому пью за обедом херес и курю сигары. Вот и всё. И в шестьдесят лет жить хочется» (Сорин о себе).
Там дальше Аркадина говорит, что никогда не была фефелой, не распускала себя, и моя мать говорила так же. Совпадение. Наверное, хотела воспитать у меня какую-то исключительную аккуратность? Возможно, не хотела, чтобы я держала руки в карманах. Но зато теперь я хожу, всегда держа руки в карманах своего халата. Но поведение Треплева мне тоже не всегда понятно. Вот, например, я не понимаю, зачем он принёс с собой дохлую чайку. И как вообще можно, если любишь человека, так обижать его, показывая ему дохлую птицу, а, например, не цветы! Типа того, что я и себя могу убить, как эту чайку. Ради чего этот мерзкий эпизод? Ради вызова? И вот теперь Чайка становится эмблемой целого театра! Говорят, что все любовные коллизии в Чайке разрушительны, не верит ни в какую любовь обиженная провинциальная женщина, вот и всё. И не понимаю, зачем театру нужен был такой позорный символ.
И вообще, здесь слишком с Островским всё связано. Эту драму Чехов называл комедией… Прямо чёрный юмор какой-то, наверное, всё было бы смешно, если бы не было так грустно. Вообще, Чехов был какой-то невезучий и скучный человек, для него понятия страдания и смешного где-то даже сходились, смыкались…
Треплев и Тригорин. У критиков я читала, что не зря Чехов дал такие фамилии, они выражают характеры. Тригорин считается положительным и сильным, как три горы… Ничего мужского в нём не увидела, занят только пополнением своего словарика фраз. Аркадина им вертит, как хочет, а он за Ниной волочится. А вот Треплева всё-таки ценю, он всё же стал писателем, и он больше всего мне понятен. Машу вообще презираю.
Зачем написана пьеса, к чему зовёт? По-моему – не верить Тригориным, не замечать Аркадиных, верить только в Бога и в себя… А вот если кого поставишь выше Бога, как я Медину, так небеса накажут…
«Дядя Ваня». Я думаю, что Астров – это Чехов, но я о другом сейчас. Сама понимаешь, проблема «старый муж и молодая жена» меня очень задела, это больное моё место. Вечно эти старые к молодым лезут. И в то время такая проблема была, а не только у тёти Тани с Наташкой (и её старым мужем) и у тёти Ани с Аллочкой. Вообще-то очень уважительно отношусь к возрасту и старости, но когда лезут на молодых, это дико раздражает. Вернёмся к Чехову. Войницкий и Соня – две яркие личности мне очень понравились. Астров, тоже ничего плохого. Хорошо Олеся говорит: «Раньше, давно, я ходила на спектакль «Дядя Ваня» и сама слышала выражения «небо в алмазах, заткни фонтан». Ворчу, как старый хрен. А теперь со смехом понимаю, что это мы надёргали фраз Чехова. У меня сильное волнение, когда начали говорить о продаже имения, об адской работе по преодолению долгов. Очень уважаю Войницкого, что не полез на Елену Андреевну, не воспользовался ситуацией скучающей женщины. Астров (читай – Чехов) так и говорит в пьесе: «Не люблю русскую уездную жизнь, терпеть не могу и презираю всеми силами моей души». Я тебе писала в прошлом письме, что не любил Чехов Мелихова, ради отца там торчал. А ты, наверно, хотела опровергнуть, потому что Чехов – певец русской души. Конец пьесы тоже очень понравился. Вообще «Дядя Ваня» – лучшее произведение Чехова, всё честно.
Немного отвлекусь. Я купила альбом воронежской художницы Елены Кокориной, тема альбома – городской пейзаж. Это художница молодая, вроде Медины. А поскольку я с Павельевой занимаюсь краеведением, мне очень понравилось. Даже Антон целый час рассматривал этот альбом, хотя ничем, кроме автогонок и футбола не интересуется, ещё сюжетные книги, правда. Альбом и вправду необычный. Дома, построенные Антоном, он всегда видел в сером цвете, а здесь те же самые дома засияли новыми красками – сиреневыми, если утро, и оранжевыми, если вечер. Пообещала себе книг не покупать, но удержаться не могла, тебе тоже понравится, если сможешь рассмотреть, конечно, мелковато для старых глаз.
Я продолжаю покрывать лаком два стула и столешницу из вологодской сосны в своей спальне, каждый слой медленно сохнет, но получается очень хорошо. Готовишься ли ты к Новому году? У нас есть коньяк от Павельевой, берегу к празднику, купила шампанское Абрау-Дюрсо… Вообще-то жизнь прекрасна и удивительна, если бы не отец. Вчера утром проснулась от пения птиц в саду, это декабрь, вообще хочется строить хрустальные замки, в теле лёгкость и душа поёт. Я тебе говорила, что последнее время увлеклась Оскаром Уайльдом, нравится безумно, потом напишу почему. Вот кто писал чудесно и прямо душу завораживает. Пока всё.
Про издательство Болховитинова… Валь, ты не могла бы написать письмо в издательство? К 425 юбилею города они выпустили роскошную вещь – набор открыток с именами исторических личностей. Для краеведов это настоящая находка, составитель Дмитрий Дьяков, поклон ему в ножки за эту работу. Но в этом наборе почему-то нет Троепольского и Дубровина, как же так. Это же люди с далеко идущей славой. Может, будет переиздание или допечатка, так необходимо вставить туда этих писателей. Мы с тобой обе их любили, и другие тоже, и все говорят, что вставить надо. Я, конечно, тоже могу написать, есть компьютер, но кто я такая? Сторожиха в саду, а ты напиши, как писатель, тебя, может, послушают.
Эпизод 5. Недоверие
Пока сестра была в школе, а все на работе, Тоню закрывали дома одну, запрещали подходить к окнам и двери. Только позже ей оставляли ключ, который открывал изнутри. Одной сидеть дома девочка очень боялась, потому что изо всех углов на неё кто-то смотрел. Неизвестно кто. Без лица, но с глазами. Поэтому малая ненавидела тишину и боялась одиночества. Боялась приближаться к предметам и долго стояла посреди комнаты, не решаясь сдвинуться с места. Простояв так часа два, она решалась присесть на кончик дивана. На диване лежало покрывало из серого сурового полотна с вышивкой ришелье. Садиться на диван было нельзя, потому что покрывало быстро мялось, как любая натуральная ткань. Становилось ясно, что на диване кто-то сидел. А за это можно было получить затрещину. Поэтому, вспомнив об этом, она быстро вскакивала и стояла, пока держали ноги. Понимая, что до обеда не простоять, тихо кралась на кухню и стояла там, боясь пошевелиться. Но и там на неё кто-то смотрел, ребёнок дрожал, мечтая часами только о том, как слиться со стенкой и стать, наконец, невидимым. Когда мать приходила с работы, дочка пыталась ей сказать, как ей страшно одной. Но слышала:
– Отстань, уйди, не приставай, не путайся под ногами.
От слова к слову голос её становился всё выше и грознее. Дочка уносила ноги, пока не дали по лбу. Ясно было, что работу никто не бросит ради того, кто путается под ногами… Ведь дочка – просто ничтожество, дура, малявка. А мать – важный специалист.
Но Тоня, сколько себя помнит, всегда была дома одна. За окнами был далёкий шум машин, на заднем дворике кудахтали куры, соседка через забор от Дикаревых звала своих детей: «Домой! Куда вы задевались? Домой!» Люди были все далеко. Даже с подругой по классу Нюшкой ей водиться не разрешали, потому что бедная была Нюшкина семья, много грязных детей, и вообще… Бедная-то – да, но мать была улыбчивая, суматошная и добрая. У них можно было сидеть, не спрашиваясь, греться, семечки щёлкать. Теленок стоял прямо на кухне, и его можно было гладить.
Тоня в детстве была бледным и худым ребёнком, про таких говорят – да её ветер качает. Она училась во вторую смену, поэтому часто оставалась дома одна. Мать и отец рано убегали на работу. Горячие свежеподжаренные котлетки стыли под эмалированной мисочкой, покрывались белым жирком. Она не могла смотреть на этот жирок. Чувствовала, что от матери достанется за пропущенный обед, но не ела, украдкой бросала котлету за стол. Прямо в щель между столом и стеною. Потом старательно заплетала тяжёлые русые коски – они у неё получались наизнанку. Закручивала концы резинками и привязывала коричневые капроновые банты. Тоня была робкая девочка в жёстких коричневых бантах, с огромными серыми глазами. Школьная форма всегда была широка ей, и тогда она брала и связывала концы пояска на чёрном школьном фартуке. Потом собирала портфель и ждала, когда стрелка подвинется к двенадцати. Сидела как на вокзале. Она и на фотографиях получалась такой: испуганные серые глаза, вытянутая шейка, коски наизнанку, старательно повязанные на четыре банта капроновые ленты. И в поднятых плечиках, и в ручках, сложенных на коленках, сплошное ожидание. А ещё была обречённость перед тем, что невозможно изменить. Чувствовала ли она свою судьбу? Она же видела, что мать с отцом трудно живут, иногда скандалят, но не могут разойтись. Потому что есть судьба. Однажды у них в доме затопило погреб, который был в подполе. Грунтовая вода затопила. Вода плескалась так высоко, что её слышно было, если проходишь по веранде. Потом вода ушла, и стало ясно, что картошка в подполе сгнила. Это был ужас, пропала еда, а из подпола пошло зловоние… «Давай выбросим, Петя? – Давай попозже, мне сейчас некогда, – отвечал замотанный директор завода». Прошёл месяц, было некогда. Смрад из подвала дышать не давал. Перед выходными Петя уехал в срочную командировку. Тогда Лидия открыла подпол и стала вёдрами выносить бывшую картошку, ставшую киселём. Она поднималась с двумя вёдрами этого киселя то железным, скольким и не ступеням даже, по прутьям, и уносила ведра далеко, за ручей в роще. Лидия была в бешенстве, что муж бросил её в такой ситуации. Но мужа тоже никто не спрашивал, а беда-то усиливалась. И вот Лидия, разгорячённая обидой и гневом, вынесла за два дня всё из подпола. У неё поясницу сорвало, и вены вылезли на ногах. «Ты что наделала?» – закричал Петя Дикарев, директор. Всё увидел, всё понял. Доказала ему, вот что наделала…
Старшая сестра Валя с виду была полная противоположность сестре – чернявая, невысокая и плотная, поесть любила, но по дому работала без устали, а Тоню воротило от посуды, от полов. Валю хвалили в школе, Тоню ругали. Если только приглядеться, то в разрезе глаз, в улыбке, в повороте головы было что-то сильно похожее. Как будто стакан один и тот же, но налито разных напитков.
Когда старшая сестра Валька ещё была с ними, Тоне казалось не так мрачно в доме. Они, бывало, по глупости хлестались полотенцем, кричали друг на друга, ссорились из-за очереди мыть посуду, но всё-таки был рядом живой человек. Старшая Валя была отличница, и строгая мать ворчала Тоне – «Учись! Смотри, как надо»! Но учиться так, как Валька, Тоня не умела. Она плохо запоминала речь учителя, и ей приходилось три раза читать, а то и зубрить учебник. Но учебник напрочь отбивал всю охоту к знаниям. Получая очередную тройку, Тоня кусала губы и оглядывалась – опять ей скажут что-нибудь обидное.
Когда младшая несла дневник, она получала затрещину и указ на старшую. Когда старшая приносила на подпись дневник, там чаще были пятёрки, чем четвёрки. Отец подписывал, а мать только поднимала брови – дети обязаны учиться. За дневник Вальку не ругали, зато ругали, что не те книжки читает. Когда Валька переписывала в тетрадь стихи, мать заявила:
– Таких, как Ахматова, надо вычёркивать. Постановление было.
Когда Валька принесла домой новую книжку, мать стала грозить пальцем. Она заметила, что на столе у Вали лежит учебник, а под ним спрятан совсем не учебник! Они то и дело ругались из-за этой голубой в разводах книжки Анчарова. Мать говорила Вальке:
– Начнётся с неуменья надевать чулки. Кончится неуменьем жить.
– Да при чем тут Анчаров-то?
– При том, что ты его начитаешься, осоловеешь, и глаза у тебя будут вставлены в стенку.
Валька втягивала голову в плечи.
– Может, я думаю! Мечтаю. Нельзя, что ли?
– А рано тебе думать. Ты пока ещё никто. Начнёшь зарабатывать на кусок хлеба, тогда думай и мечтай. А пока ты никто и ничто. Ничтожество.
Валька хлопала дверью, шла реветь. Тоня ненавидела неизвестного писателя Анчарова всем своим маленьким горячим сердцем. Он навсегда отнял у неё сестру. Да кто он такой, чтоб из-за него так унижали? И почему она ради него на такие жертвы идёт? Ей хотелось как-то заступиться за сестру, например, уговорить, чтоб она не упоминала при матери эту фамилию.
Но Валька хмурила брови и отворачивалась:
– Ты ещё маленькая.
И тогда Тоня впервые почувствовала себя такой одинокой.
Валя приехала однажды на каникулы из института, и у неё оказался перстень на руке. Такой тяжёлый пластиковый или стеклянный, прозрачный, синий, а внутри так переливчато, искристо. Перстень был похож на дальние края и цветные фильмы про любовь. Тоня погладила перстень и попросила:
– Ты привези мне такой. Сможешь?