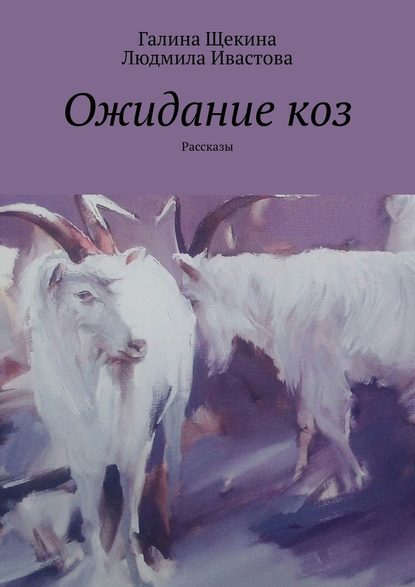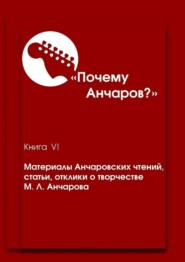По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ожидание коз. Рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Их ссора заурядна – она дразнила его, привлекая и одновременно наказывая. Он же, уверенный, что его успех – плод лишь его гения, оскорбился необходимостью платить – пасть перед женщиной, независимо от того, обязан он ей или нет… Она пыталась сопротивляться, став наконец искренней, а он уже не верил. Мужчины инерционны. Женщины ничему не подвластны.
– Вы не посмеете… насильно…
– А вы повторяйте: когда на темной улице! Настигает дикий араб!
– Я не навязывалась вам в учителя, вы сами…
– Бо-бо-бо, я не хотела быть палачом, но так вышло…
– Да не смейте же.
– А кто у вас на очереди? Вот этот бородатый?
– Ну больно же. Человек вы или кто.
– Для старой светской выдры у вас кожа слишком абрикосовая. А белки сверкают… а волосы… мм…
– Я сразу сказала вам, что вы дар. Мне близко все это, я сама пережила…
– Поплачьте еще… Люблю, когда в слезах отдаются…
– Быть от вас без ума и вот так на ходу, у плотины…
– Да не врите хоть сейчас, весь вечер смотрели, как наркоманка на морфий…
Дальше все идет без слов, остаются одни стоны. Пятнистый летучий сумрак сгущается, струнные заливают безветренный парк церемонной музыкой прошлого. Она томительна, сладка до нытья суставов. Она, как густое сладкое вино, которое бурунами в стакане, а над стаканом только запах, дуновение, а над водопадом только пыль, а над деревьями, в эфирных струйках – то, чему нет места внизу.
Внизу тела плотной укладки, вулканы амбиций, гейзеры эмоций. Плотность слов превышает плотность воды, плотность воды превышает плотность чувств. Вверху все чище, разреженней, как в высокогорном воздухе, резко, горько, беспечально. Сверху видно лучше, иные страсти растворяются в воде, исчезают…
– Почему я не ушла сразу? Зачем я вообще здесь? Работа пошла прахом, праздновать больше нечего. Весь этот прием – безумие. Мне не надо было соглашаться. Пошла на жертвы. Достала роскошное платье, уговорила мужа. Стала посмешищем в обществе. Сама стала жертвой.
– Кто она? Дразнила меня, теперь плачет. Считает меня злодеем, а я не мог от нее отойти. Это она использует меня в игре с мужем. Теперь придется платить за этот парк страшную цену. Муж меня прикончит.
– Какой парк изумительный сверху. Как пустынно и светло. Милый оказался жестоким. Он не умеет жалеть. Жалеть могу только я. Далеко мы зашли.
– Мы зашли совсем не далеко, только прикоснулись, и уже надо уходить. Но можно запомнить.
– О чем эти женщины в беседке? Они сильно любили друг друга, эти грешницы? Отринули весь белый свет, и уже никто не узнает их пропасти, их взлеты. В стихах то, что их свело. Что их свело, что? Не то, что нас…
Поразительно: падают в водопад одни, всплывают другие. Точно их заставляет кто-то кинуться и зажать друг другу рты, захлопнуть шлюз, запереть слова – потоки отравы и велит рукам обнимать неблизкие тела, и словно читать, и жадно глотать идущий изнутри неколебимый плавный жар, запечатывая ртами секретные места. Прильнуть – отомкнуть – испить – запереть. Нагнуться – припасть, вдохнуть – и устать. Взлететь – умереть, дрожать – перестать…
Теперь они тихи, как два сообщающихся сосуда. В них поровну спеси и жалости, прожитых лет и слабых надежд, наслаждений и беды. Юный на глазах становится старше от своих предчувствий, складки пересекают лоб, впалые щеки твердеют. Более взрослая она туманится, как омытая пролетевшей бурей, молодеет страхом и румянцем. Только что вырвавшаяся из объятий, она задерживает его руку. Только что срывавший с нее платье, он пытается его застегнуть… Они не смотрят друг на друга, боятся.
– Ты была… нет слов. Недостоин такой, как ты. Ты смотреть на меня больше не сможешь. Ты решила наказать меня. Но я не стану каяться.
– Ты подарок. Сама нежность. Я готова смотреть на тебя, считать твои родинки, волоски. Случилось непоправимое. Ты похож на моего сына. Я тебя хотела вырастить, пойми. Нельзя спать с невинным мальчиком… Каяться буду я.
Ночь белеет и исходит зябким дымом. Чадят забытые лампионы, поскрипывают кресла-качалки, с шумом просыпаются деревья. Вдоль стеклянной плотины струи гонят нелепые бумажные клумбы, картонные стаканы и коробки от сока.
Никого нет в заспанном парке, только эти двое, и они идут, шатаясь, в разные стороны. В сияющей жемчужной пыли над плотинкой проступает слабый радужный мост, он плывет выше и выше – туда, где живут только эфирные струйки. Не слышно больше струнных, но в тишине переливаются другие, едва слышные звуки. Они похожи на колкую жалобу рассохшихся струн, на клекот и мелодику сонной воды. Они проникают внутрь, минуя уши, подобно волнам. Они незаметно заманивают в иные слои существования. Там, где нет других звуков, кроме арф и детских хоров.
– Он думает, мщу, заплакал от ревности. Но я сама виновата, что все погубила, и его погубила, надо молиться теперь, Боже, простишь ли ты меня, низкую, не ведаю, но его не наказывай, он такой ребенок.
– Она врет, что я это лучшее. У нее таких много. А она единственная. Я как животное взял ее, а она вместо меня – каяться. Господи! Она не должна страдать из-за таких, как я. Она должна сидеть на подушках, а я – пасть перед ней на колени. Я не переживу, я должен вернуть ее. Вернись! Господи, верни ее…
– Я чувствую, как он умирает, его боль ощущаю как свою. Ау, мое сердечко, не рвись. В водопаде мы задохнулись, чуть не умерли. Судьба подсказала нам другой путь, а мы не расслышали. Теперь надо искупать грех телесный, и Бог простит нас, и мы найдемся. Прости меня, милый. Ты голоса моего не слышал, а теперь ты слышишь меня даже молча.
Когда люди близки чувственно, души их одиноки и брошены, болтаются в серой поземке и стынут. Когда люди расстаются телесно, они встречаются душами астрально. И вечный их разговор отныне лишен злобы и недоверия. Услышанный уже не потеряется.
Если опускать взгляд, то вскоре он уткнется в зримый предел. Увидится неподвижность камня или колыхание воды, а под ними версты глухой тверди, может быть, дальше угадается расплавленная пучина. Это конечная остановка.
А когда на вязкой земле сладкое вино жизни выпито, жизнь отрывается от привычной поверхности и легко поднимается ввысь. Если подниматься еще, туда, где неясные тени парят над нежной кисеей водопада, и выше, выше в стремительно засасывающее нечто – граница так и не появится, потому что ее нет. Низкое конечно, а высокое длится без конца. Поэтому этот путь заманчив, а сияющая цель отдаляется с такой же ровной скоростью, с какой ее хотят приблизить.
Закоулок
Закоулок возле гигантского института возник тогда, когда его администрация перекинула крытый переход из одного здания в другое. Бывший подъезд стал крытой верандой: лестница, перила, скамейки и наглухо заделанная дверь, над которой витой чугунный фонарь. Как сцена. А мои окна напротив, все хорошо видно и слышно. Стоит только отодвинуть штору…
Сегодня днем, например, там продолжительно ссорилась молодая пара. Оба разодетые, как дикторы, оба в длинных пальто, он с кейсом, она с нарядным сундучком, в ярком макияже. Сначала договорились о том, куда пойдут обедать, потом, повысив голоса, обсуждали родителей, у которых они живут по его, а не по ее милости, и вот, дошло до того, что даже поесть негде, а приходится посещать забегаловки. Потом он сказал ей нечто на ухо и получил за это пощечину. Долго целовались. Видимо, решили больше не обедать никогда в жизни…
Девочки дошкольного возраста раскладывали своих кукол и их одежды. Их стал обстреливать камешками узкоглазый мальчик, которого не приняли в тряпочную жизнь. Две малышки расплакались, а одна внезапно подскочила к пулеметчику, надавала ему пинков. Тот грубо толкнул ее на землю, но сам тем не менее убрался. Сгрудившись, малышня жарко шумела, переживая победу. Бомж завистливо посмотрел на их возню, потом, не желая им мешать, примостился со своими мешками внизу, на ступеньках. Занятая собой, малышня обнаружила это не сразу. А потом тут же стала действовать испытанным способом – кидаться камнями. Бомж, едва успев пожевать свои объедки, сгорбившись, уплелся… В закоулке шла своя маленькая жизнь и проигрывались модели большой и неизвестной жизни. Я человек пожилой, плохо видящий, телевизор смотреть не могу, и не только потому, что от него болит голова. От него на улицу страшно выходить! Мне приходится ходить в поликлинику, за пенсией. Дачу я продала своей хорошей знакомой, когда пришлось лежать два месяца в больнице. Иногда она заходит, приносит мне оброк с моего участка, вот смешная, до сих пор радуется этим кандалам. Я же свела до минимума общение с внешним миром, мне осталось жить самое большое лет десять, и я хочу отдохнуть перед уходом. В моей жизни сейчас все прозрачно, как в отстоявшемся безжизненном водоеме. В моей жизни самое главное теперь – это я сама, как жаль, что раньше я этого не понимала. А почему – об этом я говорить не буду, я должна себя беречь от лишних потрясений.
Вечером, когда я только расположилась поесть сыру и попить горячего на ночь, за окном послышались детские голоса, это было странно в такое позднее время. Я тут же выключила торшер, отогнула бархатную штору. Мимо закоулка шествовало семейство, видимо, с вечеринки. Я знала их как соседей, живших в том же доме, что и я. Детей было трое, они ожесточенно толкались и вырывали друг у друга сладости. Муж угрюмо смотрел под ноги, жена вертелась юлой, заглядывая ему в глаза и одновременно пытаясь утихомирить детей. Я тоже в свое время вот так же тратилась и к чему пришла? Впрочем, речь не обо мне.
Семейство двигалось рывками, дети взбегали на поребрики и веранду, ломали чахлые дворовые деревца.
«Мы говорили о японском театре, – твердила жена, – о японском театре, слышишь. А потом о том, что в театре их заставляли сочинять и тут же играть этюды, представляешь. А некоторые на это годы тратят». – «Вот это действительно театр, – бормотал муж, – то, что я вижу и слышу сейчас». – «Да нет же. Я давно мечтала с ним поговорить. У этих театралов совсем другое мышление, более активное и глубокое». Муж не отвечал. Дети дрались. Они ушли в свою грустную темень.
Двор погрузился в тишину, только из верхних окон института проливалась знойная латиноамериканская музыка. Научные сотрудники праздновали что-то, отзвук их праздника делал двор таинственным и волнующим. Закоулок, освещенный сквозь чугунные завитки, смотрелся как просцениум.
Вскоре прибежала давешняя женщина и с плачем бросилась на скамейку. Воображаю, какую головомойку получила она от муженька. Ни себе ни детям толку дать не может, а туда же, о японском театре толкует. Она выплакивалась долго, мне уже надоело, и я было ушла от окна. Потом на верхнем этаже, видимо, распахнули фрамуги, и чужой праздник стал громче. «Мы эхо, – лилось волшебно, – мы эхо… Мы долгое эхо друг друга». Анны Герман давно нет, а ее продолжают любить как живую. Почему она выговаривает слова без акцента, а все равно ясно, что она не русская? Потому, что она утонченное существо, в ней нет бабства, как в Бабкиной, как во всех прочих нынешних дивах такого сорта. Герман выдыхает слова, она самозабвенна и простосердечна, и это ничем не заменить, не подделать… Это единственная певица на свете, мне все равно, что она поет, мне хочется слушать все, что она поет…
Женщина сидела на той же скамейке, прислонясь головой к столбику и слушала музыку вместе со мной. «Сладку ягоду рвали вместе, горьку ягоду я одна…» Мне показалось, что если я могу ее понимать, то и она меня. Мысленно как бы заговорила с ней. Ну что, глупенькая, не пора ли тебе опомниться? Ты ведь еще не так стара, как я. Так ли уж надо быть рабой чужих представлений?
Медленные движения, которыми она вытирала глаза, нос, механически складывала платочек, говорили о том, что она вроде бы успокоилась, даже поправила юбку, волосы. Она отдыхала от скандала и размышляла о чем-то.
Шаркающей расхлябанной походкой к ней приблизился неприлично молодой, откровенно южный человек с головы до ног в американских надписях и отвратительной золотой куртке. Он постоял, пошевелил пальцами и сел рядом. Не поодаль, не напротив, а рядом, потому что это такое поколение, им все можно. Она не шевелилась.
– Пэчальная, – заметил южанин.
Ему хотелось поговорить, а он не умел. А ей не хотелось. Он попытался объяснить, что она еще ничего.
– Уйди, – коротко сказала она.
– Он тэбя бил? Ты нэ просто тут. У вас ссора.
– Ну и что?
– Ты можешь намстыть грубому мужу. Со мной.