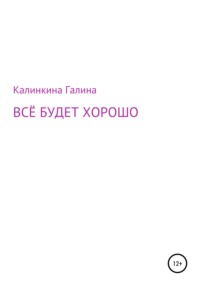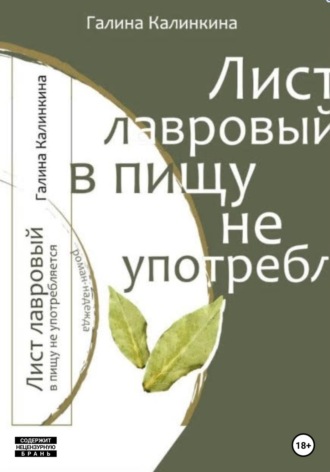
Лист лавровый в пищу не употребляется…
Как близко видевшему смерть каждый день вдруг привыкнуть к её обыденности? Картины чужой гибели становились испытанием. Люди теперь казались вещмешками, ношеной одеждой: свернешь шкурку и на выброс. И ничего не изменится в пространстве. Люди – кучи барахла, тряпичные куклы, разбросанные по насыпям, откосам и кюветам за железнодорожным полотном. Народ съедают, как хлеб едят. В пути без остатка выветрились самонадеянность и беззаботность – вечные спутники юношества. И никого в помощь: ни наставника, ни избавителя. Мучительно вслушивался в разговоры подсаживающихся на станциях; полустанки ближе к Москве поезд проскакивал. Всматривался в лица попутчиков: прочесть бы, чем кончат тут.
На Николаевский вокзал поезд прибыл в клубах пара и кисло-сырого рассветного тумана. Солдатня со свистом и гиканьем полезла с крыш, из окон, с подножек, как муравьи из муравейника, ошпаренного кипятком. За ними, остерегаясь, вываливались штатские: мешочники и беженцы. Перрон вокзала пропах тяжелым духом горячего металла, мазута, колесной смазки, кипящих титанов, дешевого чая, пота и несвежего белья – неизменным, особым, вечным запахом железной дороги.
Туман не рассеивался и весь путь первым трамваем от Каланчовского поля, Стромынкой, Сокольниками и до самой «Воробьихи» в Богородском. Кондуктор сонно принял плату и снова уткнулся в поднятый воротник, не глядя на первого пассажира – бородатого паренька с котомкой через плечо. На развилке трамвай, огибая фабричную ограду, повернул на Лосиный остров. Лавр, соскочил на ходу и двинулся в сторону противоположную дому. Акулинина чайная лавка на развилке в столь ранний час ещё не отворилась. Безлюдно и возле резиновой мануфактуры – воскресный день. Спустился к излучине Яузы. Присел над водою. Туманный сумрак здесь гуще, плотнее. Только в лесу ещё остаётся мирная тишина. Уши вязкой тишиной как ватой заложены. Вода на стремнине бьётся прозрачная и живая. А по обыкновению бывала тут мутной, медленной от выбросов. И отец клял резиновое хозяйство, загадившее Яузу и Лосинку. Выходит, не в воскресном дне дело. Фабрики встали.
Снова выбрался на дорогу. У «Воробьихи» всё ещё затворены ставни. Каменные карминные стены и выпуклые ребристые сооружения за ними неподвижностью своей напоминают массу застывшей резины. Резко взял левее, пересёк лучевой просек. Пошел перелеском на Путяевские пруды, стараясь пробраться между Моржовым и Змейкой, не выскочить случайно на Чёртов пруд с дурной славой. Дважды сбивался с тропинки. Тропы кое-где сужались до узкой цепи, если нагонишь впередиидущего – не обойти так, чтоб не съехать на кочки или в болотце не ступить. Теперь вглядываясь туда, где, казалось, и должен быть Чёртов, увидал щуплую фигуру во френче. Френч мелькнул колесом спины и слился с деревьями. В тумане глухо залаяла собака, чужого учуяла. Его ли самого, Лавра, или того во френче? Должно быть, с купеческих дач слыхать. Про дачи отец рассказывал: купцы устроили в Сокольниках грот, тир, искусственный курган, пожарную вышку. Все собирались взглянуть вместе, так и не пришлось. Теперь же подходить к лесным дачам не стоит, кто знает, что там.
Лес стоял приготовленным к празднеству.
Поднеси сверху луч золотой и заиграет, загорится листвой пёстрой, лоскутной. Но неизвестная подчиняющая сила медлила, поражая наполненностью изумительно-дикой красоты. Туман приглушал свет, и празднество в лесу не наступало, но предчувствовалось. Рябины переливались парчой, орешник, березы отливали медью, но пока не оголились – стояли узнавшими, дождавшимися.
Выбрался к платформе «пятой версты». На железнодорожном полотне заметно посветлело, туман разрежен. Пусто на путях, но видно на полторы дюжины шпал вправо и влево, всего лишь. Перешел на ту сторону «железки», к пакгаузам с мазутом, и зашагал напрямки. У пакгауза шаркал сапожищами сонный часовой с винтовкой за спиною, безразлично взглянул на одинокого пешехода, встряхнув плечами, не вынимая рук из карманов, подправил погон ружья и развернулся прочь. Где-то совсем рядом всхлипнул паровозный гудок. Отец говорил, в голосе паровоза есть утверждение, торжество и тревога. Гудок ещё и ещё надрывал сердце детским плачем. Самого поезда не видать.
Тоскливо заморосило и никого кругом. Оробевшие улицы, черные окна, ни огонька. Шаг глухой. И вдруг слабенький упреждающий свист: «Фью». Лавр насторожился, шагу не сбавил. Свернул за угол и с ходу налетел на две фигуры. Мужик выворачивал на спину парню пухлый мешок из лабазного окна. Лавр открыто взглянул в глаза принявшему мешок: что здесь? В ответ из-под кепки прицельный прищур на прохожего: ступай, христарадник. Секунды бороли взглядами друг друга: корсак и халзан. Смолчали. Разошлись. Лавр обогнул пригнувшегося под грузом и зашагал прочь, подтянув потуже лямку котомки, не оглядываясь, чувствуя на виске ещё и третьего взгляд, соловья упреждающего «фью», «фью». Мародёры или обыкновенные воры. Плевать, плевать, грабьте, хозяева нового мира, грабьте.
Идёшь под изморосью, словно сон о себе смотришь. Идешь, идешь, будто поймой реки, низиной, бродом и вот-вот пустишься вплавь, в белый омут нырнешь…
Весь город в тумане.
Всё – туман.
Жизнь – туман.
Ни Таракановки не видать, ни овражка, ни моста горбатого. А храм на горе стоит чистым, золотящимся звездами в черных куполах; пусть и крестов его не разглядеть в дымке. И сердце зябнет: неужто, дома? И внезапно обрушившийся, оглушительно-близкий звон колокольный. Полиелейный с Косоухим бьют: дома-дома, дома-дома. Благовест в тумане разливается. И тот взгляд из-под кепки держит, цепкий такой, колючий, въедливый, лихой русский, знакомый взгляд: и вправду, значит, дома.
Ключи забрал у протодиакона Буфетова.
Лексей Лексеич Буфетов жил по ту сторону церковной горки, у погоста при храме Илии Пророка. Будить не пришлось, в доме уже поднялись; к заутрене бьют. Старший сын Буфетовых – звонарь. Обрадовался старик, всплакнул на пороге и диаконица Варваруня всплакнула, а дети младшие, должно, спали ещё.
Чугунные ворота у Большого дома не заперты, прикрыты, кто-то увёл с ворот замок. Перед крыльцом Лавр замедлил, остановился. Пока добирался, ехал, трясся, голодал, не спал, была такая тяга – войти в дом; во что бы то ни встало войти в свой дом. Желание и гнало всю дорогу, как тягловый паровоз тащит вагоны: добраться. А тут ноги отнялись. Оступился на ступени крыльца, досочка прогнила. И руки занемели, отворяя двери. Вспыхнул свет, и тьма ушла. Побежала трель электрического звонка, за угол, в комнаты и кухню. Свет и трели возмутили тишину, а шаги человека, хозяина, тишину изгнали.
Когда руки не помнят, где находится выключатель, значит, человек непозволительно долго отсутствовал дома. Когда некому у него спросить: «как доехал», стало быть, совсем одинок тот человек, один во всём мире. Лавр ожидал увидеть беспорядок убегания и спешного отъезда. Уборка дала бы паузу между прошлыми днями и настоящими. Но комнаты оказались прибраны и не тронуты сумбуром, как будто сюда, так и не добрался революционный хаос. Похоже, прибрались Буфетовы. Они же теперь дали вернувшемуся миску фасоли и детскую наволочку сушеной моркови – на первое время перебиться.
С грустью и радостью светлой прошел в зал-столовую, через библиотеку в отцов кабинет, вернулся в зал, прошёл в свою комнату – бывшую детскую. Огляделся. Ничего не хотелось трогать. Прежние звуки и запахи будто бы обещали вернуть невозможное. С другого крыльца во двор выбрался. Подышал, вглядываясь с порога террасы в верзилу-грушу, не входя сад. Совсем рассвело. Но день не обещал быть солнечным, дождь накрапывал, сея печаль. Знакомо и тонко пахло флоксами и яблоками. Яблоки спели и флоксы цвели. Значит, и без хозяев есть жизнь сада. Здесь тихо-тихо. Будто изгнанная тишина дома перебралась в сад.
Труднее всего войти в спальню мамы.
Здесь зашторено. Плотный полумрак. Идя на ощупь, помнишь всю обстановку до мельчайших потребностей: справа окно, оттуда в щели сочится день. Налево мамина кровать и туалетный столик. Вот по середине ширма, напротив входа шкаф и этажерка с книгами. Распахнул гардины и свет всей мощью обескуражил, как плеск ледяной воды в лицо. Картинка сохранившейся довоенной, допереворотной жизни окунула в домашнее, мамино, отцово, в те их общие дни, где жил беззаботный Лисенок-корсак, Лаврушка. Давая невыразимое упоение, картина прошлого беспечалия застала врасплох. Лавр не плакал в третий, девятый, сороковой дни, а теперь по-детски безутешно разрыдался у полупустого шкафа, как у гроба, уткнувшись в кремовое муар-антик платье, сохранившее, казалось, флоксовый аромат. Полупустой флакон «Лила-Флёри» с отбитым горлышком стоял на туалетном столике и отражался в псише, под углом, должно быть, наклоненном ещё маминой рукою.
В зале ртутный столбик барометра Карла Воткея резко упал: женщина спряталась, бюргер вышел из домика. Стало быть, дожди надвигаются затяжные. Бюргерша всегда так делает – прячется в дождь. Напольные часы мастера Макарова с четвертным репетирным боем каждый час били гонг и «Вестминстерским» перезвоном возвещали переход часа. Кому били в пустом доме? Значит, вещи и без хозяев длят свою жизнь.
После хаоса, погромов, дорожных обысков, стрельбы и непрестанного стука колёс тишина дома, сгустившаяся у иконостаса, казалась обманным, незаслуженным беспечалием. Невозможным казалось улечься, как ни в чём небывало, в бывшей детской.
Уснул на оттоманке в не протопленном зале. Не было и мысли о том, чтоб раздеться в этом холоде.
Наутро следующего дня пошла его другая жизнь.
Ни свет, ни заря на заживший в доме огонек объявился незнакомый дворник, потребовал триста рублей за уборку двора, грозился вызовом в комиссариат, в домком, к квартхозу, к Комиссару труда по поводу грязного содержания полисадника в неделю санитарной очистки. Не сговорились.
Днем Лавр укрепил обломившуюся ступеньку крыльца, собрал пожухлую листву у фасада. Метелки не нашлось, пригодились грабли из садового сарая. С непривычки стёр ладони до мозолей. Теперь физический труд удерживал внимание на ближайшем и приносил искомую усталость. Садовым работам научился на хуторе в Айзпуте у дальней родни. Там жил после смерти родителей до самого отъезда, изредка наезжая на экзаменацию в Политехнический институт Риги. Но работы по саду были редкой радостью, празднеством. Из палисадника Лавр перебрался в сад, сгрёб листву в пирамиды, собрал опавшие сучья и лишь густые сумерки прогнали в дом. Нагрел воды для мытья, прочистил печь, уйму времени провёл в поисках спичек, свечей, бумаги для разжигания. В прошлом не замечаемые бытовые мелочи превратились нынче в череду странных, не преодолеваемых сложностей. Сложное упростилось до невозможности, простое усложнилось до безнадёжности.
Заботы по хозяйству отвлекали, но с души не сходили скорбь и ропот. Кашеварил, стирал, утюжил, а всё наползали мысли о далёком и теплом, о неизбывном детском благополучии, об отошедших из мира. И всё говорил с ними: то с отцом, то с матерью, будто не один вернулся, будто и за стол не один садился. По родителям больше не плакал, полон надеждой на их непреложное бессмертие и присутствие. Они лишь казались умершими, отошедшими. Они ушли из своей жизни, но верил – в его остались. Их исход не погибель и не уничтожение; просто мама и папа теперь пребывали на расстоянии, через пролёт. Он, конечно, всегда знал о том пролёте, где расстояние никогда не росло и не пресекалось. Но все же одна мысль свербила, точно мышь, мстительно подтачивающая во вред хозяину углы на пустой кухне. Лавр гнал мысль-мышь, но та снова и снова проникала в щели воспоминаний.
Молитва и грех всегда рядом, соперничают.
Рвался домой, но не к людям, а к вещам, книгам, стенам, ликам. Поражала тяга таинственной силы вещей, что подобно воздуху и свету имеет необъяснимую власть над человеком. Иная вещь памятью ладоней воскрешает животворящую силу не избытых переживаний. Здесь не оставляло ощущение близости прошлой жизни, не прожитой, не дожитой, бесценной, что ощущалась прежде совершенно обыкновенной, будничной, а могла бы, да не разворачивалась в непременно прекрасное.
Кажется, будто в дверях комнат ещё оставлены ключи.
Изредка заходил протодиакон Буфетов, тихий человек с кротким лицом и прежде насмешливыми глазами. Всегда один, всегда с непустыми руками: то коробок спичек прихватит, то свечей восковых, то поминное. Посидит, повздыхает да соберется восвояси. А Лаврику и принять стыдно, и отказать старику невозможно – обидится. Ест кутью, запивает рябиновым изваром и сам себе обещает: в последний раз, в последний раз. Семья протодиакона ещё не жила впроголодь, существуя на доброхотные даяния. Сыновья прислуживали алтарником, звонарём и псаломщиком в храме, да свечи грошовые из монастырского воску сообща крутили на продажу. Сам протодиакон ежедневно исполнял требы, тем и кормился, тем семейных и пришлых подкармливал.
– Молчишь?
– Я говорю. Не слышно?
– В годы бед нет важнее сердечного делания.
– Свечей не нашёл. Вечером в темноту пялился.
– Свечи мыши погрызли. Мышиный пир, мышиный пир…
– Спички отсырели.
– Мы снедь-то у вас подобрали. В иные дни и совсем уж съестного не оставалось. Но в крайний час вдруг кто-то приходил и что-то приносил. Промысел Божий в том вижу.
– Не в обиде.
– Теперь помывка – цельное дело.
– Разберусь.
– Зашел бы на чай. Тощ больно.
– Сам кашеварю.
– Дому семейному нынче привыкать к холостяцкой жизни. О-хо-хо-х…
– Пустым и то выстоял.
– А к обедне что же не ходишь? Мать-то тебя младеньчиком в одеялках носила. Помяни ее, Господи, во Царствии Своем. Что же?
Лавр упрямо головой мотал. Протодиакон вздыхал.
– А ты не гаси огонёк-то. В следовании кроется преодоление. Вот я вошел в жизнь поседелых людей и близок к выходу, а все не насытился жизнью-то. И всё больше та жизнь не во мне, а в окружающем. Не гаси огонёк-то.
Повздыхает старик, повздыхает и к себе пойдет. А Лавр и не проводит, и не всполошится. Сосредоточится на дохлой мухе или трещине в стене и перебирает: вот сидим мы с Лексей Лексеичем, молчим, спасаемся. А кто же с солдатом, завшивевшим в окопе? Кто с девочкой, подбирающей гниль из-под прилавка базарного? Их кто спасет? Скажите Богу: как страшны дела Его! Разъедающее сомнение. И как будто бы к ответу Бога призывал: ответь, как же допускаешь победу низких людей? Сам пугался бесстрашности. И умалялся, и отступал. Поди, Христос теперь там, в окопе, в лазарете у стола операционного. И нету Его сейчас в церкви-то. Пусто там. Потому и большевички кожаные в храмы прут, шапок не снимая.
Так пролетали дни, так влочились ночи. Хотелось спать и не спалось.
Рано темнело. Дожди отошли. День убавлялся в зиму.
Нутро снега ждало. Где-то слышал прежде «живи в большом городе, как монах, стяжай тишину»; где, от кого? Электричество давали с перебоями, мраком повергая в уныние. Лишь протодиакон и навещал, приносил свечные огарочки: «Зарос ты. Одичал, Лаврушка. Мне, старику, такая борода положена, а ты-то укоротил бы». Лавр, сидя на табурете, подставлял то макушку, то шею и под стрекот ножниц выспрашивал: «Лексей Лексеич, действовать надо или бездействовать?». Протодиакон усмехался, но выходило всё больше не с довоенной хитринкой, а с печатью печали: «А это когда как. Возбуждай радость, где есть горе. Но будешь падать, не уклоняйся».
Расстанутся молча, каждый на своем стоит. А сойдутся и опять за разговор.
– Потрепало?
– Цел остался.
– Ещё потреплет. В христианстве не жди покою.
– Не себе иу.
– Что делать-то умеешь?
– Плотничаю маленько. В Москве ничему не учили. В Риге дядья в руки дело вложили.
– Тут нынче не строят.
И на обратном пути по дороге в храм утешает себя Лексей Лексеич: парень молод, разумен и тоже под Отцовым крылом, что ж беспокойство тщетное даст?..
Однажды Буфетов застал Лаврика за склейкой развалившегося синодика. Да у того так ладно получилось, загляденье. Лексей Лексеич стал приносить книги в починку, а за переплетные работы расплачивался, когда медной монетой, а когда и купюрой, сахаром. Предлагал оформиться в «Переплетной и гравёрной мастерской» при лито-типографии Платон Платоныча Вашутина. Но Лавр работу брал, а оформляться не спешил. Иной раз подновлял оклады у икон, киоты, чеканные светильники, но за серьезную реставрацию не брался, хотя рука его считалась точной и даровитой. Так учитель ручного труда в пансионе говорил, и дядья в Риге подтверждали, когда племянник поделки из янтаря стропалил.
Буфетов всё смирения ждал и в храм звал: «Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т». Лавр отмалчивался, сам ответа искал: разве Богу своему и лампадки не возожгу? Сидел, как бирюк дома, на себя и на Небо серчая.
Казалось, и так жить можно.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 1920-й год
1 Неправильные вещи
Насытился тишиной и ликами, потянуло и лица увидеть.
Время снимать шкурку с гвоздя. «Ты даровал мне плоть и кости, дыхание и жизнь». Бог хочет от тебя чего-то. Чего?
Лишь отойдя от тягот дороги, мало-мальски быт устроив, выбрался-таки в город. Едва зашагал по слободке, встретил знакомца Аркашку Шмидта – сына сапожника. На углу паровой лито-типографии сапожники сбывали мыло, папиросы Лаферма «Фру-Фру», «Дюшес» и «Смычка», гуталин, стельки, шнурки. Рыжий Шмидт играл на губной гармошке, весело и придурковато зазывал на починку обувки, соперничая с армянином-будочником, торгующим неподалёку на базарной площади перед Горбатым мостком. Лавру вспомнилось, как лет шесть-семь назад на Святки случилась драка: двое на двое. Они с Костей Евсиковым возвращались с уроков из Набилковского пансиона в Мещанской слободе. К Аркашке тогда примкнул сотоварищ его по бараку Федька Хрящев – Гугнивый. «Бей гимназёров!» – гундосил Федька. А сестрёнка Федькина, на пару-тройку годиков младше брата, с криком «ерохвост, осади» влетела в их кучу малу, к удивлению всей четверки, взяв сторону длинноногого гимназиста – Лаврика. В той драке угомонились, когда обнаружили оторванный рукав от Тонькиного пальтишки. Кто оторвал – как узнать? Вину на себя взял Лантратов, а Федька и не противился, ему ещё не миновать трепки за прорехи на собственном кафтане. Тонька ревела щенком сивуча, во всю глотку: ей и досталось больно в свалке, и пальто разодрали. Под расстёгнутыми, плотной ткани, пальто у гимназистов – Кости и Лаврика – форменные мундиры с чёрными обшлагами и фиолетовыми воротниками остались абсолютно целыми, не тронутыми.
– Сквитаемся, барчук! – Федька сощурил узкие глазёнки, на безопасном расстоянии выставив мосластый кулак в сторону Лавра и Костика. – И ты схлопочешь, ваула.
На следующий день Улита Лахтина – кормилица – по наказу матери Лавра снесла Хрящевым в барак почти новую мерлушковую шубку, из какой вырос Лисёнок-корсак. И Тонька зиму щеголяла в голубовато-серой мерлушке. И вот тогда-то впервые поссорились два брата-молочника: Дар Лахтин и Лаврик. Дар не простил Лаврику соседкины слёзы. И себе не прощал, что не оказался в тот полдень на горке. И мамке Улите не прощал, уложившей его на время крепких святочных морозов в постель. Улита боялась обострения хищной болезни и девять дней пролежала сама рядом с Даром, не позволяя вставать. Лантратовы, хозяева, давали укреплённое питание заболевшему, выписывали докторов из больнички. В тот раз приступа с рецидивом не допустили. А Дарка всё рисовал девочку в шубке с оторванным рукавом.
За Федькой Гугнивым ходила слава предводителя шайки налётчиков по чужим садам. Коська Евс и Лаврик не раз заставали у себя в садах невесомых малолеток, рассевшихся на суках деревьев, словно воробьишки, и сотрясающих ветви со спелыми плодами. Коська при том горячился, обращаясь к мальцам: «Кокильяры! Господа корсары, уггощайтесь! Зачем же яблоню ттак ттрясти?». Пацанята из Федькиной ватаги шли к решетам и корзинам, на какие указывал Костик. А Федька гнусавил: «Стой, шибздики, в подачках не нуждаемся. Сами добудем». И оглушительно свистнув, разворачивал всю ватагу восвояси.
Теперь Лавр с Аркашкой издали переглянулись, не здороваясь. Сапожник весело подмигнул: бороду отпустил, барчук? Аркашка раздался в плечах, отрастил рыжий чуб до бровей, но в росте сильно уступал Лавру. Разошлись чужими, как и прежде. Не те лица, не родные.
Первым делом непременно отыскать Евса, потом к Лахтиным – молочной матери и брату. Но в профессорском доме за Горбатым мостком окна оказались заколочены досками крест-накрест, на двери шляпным гвоздем прихвачен обрывок записки: переехали в Последний переулок. Не близко, однако. И, повернув обратно, едва не столкнулся с соседом Евсиковых – часовщиком, кажется, по фамилии Гравве. Отчество часовщика Лавр напрочь забыл, едва ли и знал, вспомнилась прибаутка: Вера, Надежда, Любовь и отец их Лев – у старика-вдовца росли три дочери-погодки. За время, что не виделись, часовщик сильно сдал, не узнать: высох до бушмена, краснел неожиданно обветренным лицом, как пейзан на уборочной, и пересекал двор неуверенной, «заячьей» походкой, идя нервно, петляя, будто следы путая. Пиджак цвета хаки болтался на спине колесом, как чужой, взятый на вырост. Гравве, напротив, легко узнал в высоком молодом человеке, друга соседа Костика, удивлялся росту, неожиданному появлению и отсоветовал искать Евсиковых, убегли они из города то ли в Туретчину, то ли в Эфиопию. А на расспросы отвечал почти шёпотом и озираясь: «Последний переулок… Поймите же, Последний! Безумные правят городом! Вот такой пендельфедер. Зачем Вы вернулись? Тут безоглядно жить нельзя. Подлый мир, подлый. Не вижу нигде, не вижу… Где Он? Куда отлучился? Не могу молиться Ему!». Толком не объяснившись, торопясь, Гравве пустился наискосок к парадной.
Часовщик, бывший сосед Евса – призрак прошлой жизни, малознакомый странный человек – теперь будто родной и нужный, потому как узнаёт Лавра в лицо. Значит, Лавр в своем городе, значит, и взаправду снова в своем городе. Значит, нет одиночества. Котька, Котька… Куда ты подевался, Чепуха-на-чепухе? Костино детское прозвище всплыло одновременно с историей про египетские мумии. Лавр заулыбался, продолжая бесцельно топтаться во дворе Евсиковых.
Тогда, не дождавшись Пасхальных каникул, сбежали с занятий в Музей изящных искусств. На спор решили проверить выдержку и стойкость: просидеть ночь в Египетском зале. Как выберутся обратно, не сговорились, главное, доказать – могут. Потолочная богиня Нут распростерлась над ними. И пока Котя запрокидывая голову, определял навскидку размах птичьих крыльев, Лаврик сумел забраться в укрытие между колонной с папирусом и саркофагом жреца. Но замечтавшийся друг его растерялся под пристальным взглядом служителя в дверях, покраснел, смущением и неуместной суетой выдавая себя. Музейщик заподозрил неладное. После короткого допроса Котька, физиологически не переносивший ложь, был раскрыт, насильно выдворен из Египетского зала в зал Древнего Востока и дальше прочь, прочь. Осмотрев почти всю экспозицию, Костик застыл перед мраморным Давидом. И более ни о чем не помнил. Но восхищали его вовсе не мощь фигуры или искусство воплощения библейского сюжета. Сына профессора медицины заинтересовала анатомическая непропорциональность некоторых частей тела. Правая рука изваяния казалась намеренно увеличенной, да и иудейский нос выделялся размерами. Перед самым закрытием музея Костик очнулся, вспомнил о товарище и сам поднял тревогу. Он испугался оставлять Лаврика в темном жутковато-таинственном зале среди спящих с открытыми глазами мумий. Ему казалось невозможным вернуться домой и преспокойно лечь в постель. Надо знать Котю, чтобы обидеться на него за срыв эксперимента, за невыполнение договоренностей. Если Котя кого-то жалел, он жалел действенно и непременно собирался утирать слезы тому, кто плакал. По тревоге, им поднятой, служители произвели розыск и вызволили поколебавшегося в отваге Лаврика. На следующий день музей уведомил о проступке руководство Набилковского пансиона, а пансион – родственников испытателей. Но к удивлению мальчиков, дело обошлось довольно сносно: без особых издёвок однокашников и разносов дома. А директор пансиона Иван Львович так и вовсе поддержал своих подопечных за «побуждение к изящному досугу». Котька долго поминал провал, но винил не себя, а служителя: «Всё кунстхисторикер ввиноват».
Чепуха-на-чепухе, чепуха-на-чепухе…друг славный, славный Евс.
Если теперь незачем идти в Последний переулок и Евс действительно отбыл в Туретчину или Эфиопию, то айда смотреть город. Пройти тем маршрутом, какой не раз с отцом выбирали, найти Москву прежней, довоенной, допереворотной.
Горбатым мостком перебрался к базару. Рыночный гомон гнал дальше и даже запахи не остановили. Стоят последние золотые и солнечные дни, где город жив солнцем. Подался на Ерденевскую слободу и оттуда к путям Виндавского вокзала. Запах горячего железа тотчас напомнил страшный путь домой, кровь и смерти напомнил. Доносились переборы гармошки и сухой, надтреснутый голос, оравший частушку: