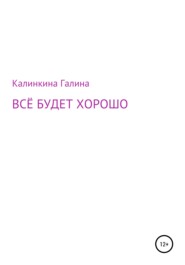По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лист лавровый в пищу не употребляется…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Эх, сиротка наш Анатолий, – завела разговор хозяйка.
– А он настоятеля дядюшкой зовёт, – откликнулся Лавр.
– Может и родня дальняя. О. Антоний его у себя оставил после упокоения одной новопреставленной. У нас тогда отпевали. Про папашу его все года ничего не слыхать, должно и тот сгинул со свету. Вот мальчонка при храме и растёт. Мать-то из Тмутаракани его привезла, из Китаю.
– Из Китая?
– Ох, не одобрит Лексей Лексеич, разболталась. Времена страшные, а сироте-то куда страшнее. Ты вот скажи мне, Лаврушка, вот за границами ты побывал, ученый, поди, знашь. А вот что за интернационализма такая? Никак я не возьму в разум. Ой, вон Калина Иванович по тропке чешет, к нам должно. Не случилось ли чего? Или так, к обеду. И ты оставайся трапезничать.
Лавр поднялся, собираясь уходить.
– Мир дому сему.
– С миром принимаем. Как дела твои, Калина Иваныч?
– Бисером вышиваем, мелочь засыпала, – буркнул как обычно церковный сторож. – Наплывает суета и хождение тудысюдное.
А диаконица недовольство на себя примеряла: задела чем Калину? Почто сердитый пришёл?
Не дождавшись протодиакона и раскланявшись со сторожем в дверях, Лавр заспешил домой. Сторож сверкнул на Лантратова «цыганским глазом» и как штыком кольнул в упругих кольцах бородой: не лезь поперёк, цыплак!
На улице похолодало к вечеру, а ночью может и подморозить. Русский под зиму ждет холодов, ощеривается, ощетинивается, а ежели холода запоздали, человек русский топорщится шкурой, ропщет, мается: морозы да снег ему подавай. В крови у русского память холода, повинность и готовность защиты. А кто ж от благодати тепла станет защищаться? Благодать тепла для русского есть поблажка временная, скоротечная, невзаправдашняя. Зимою понадобится аккуратно протапливать дом и флигель. А дрова нынче ценность невероятная, даже коренья дорого стоят. Хорошо, на холостяцкую жизнь немного уходит, малым продержишься. Забор с улицы чугунный, не то давно бы выломали, как за ночь исчез целый пролёт на тылах сада; стоит с прогалом. Замок вот с ворот увели. Теперь створки тряпицей подвязаны. И хоть на дворы у кладбища да Церковной горки не покусились, хоть Буфетовы без хозяев поддерживали жизнь в Большом доме и флигеле, а не вернись теперь жилец и не уберечь от мародёров лантратовской усадьбы.
С хозяйственных дум Лавр снова вернулся к размышлениям о Толике и ночи у Евсиковых. Тепло сердцу. Чтобы другу радоваться как брату, чтобы возле чужого ребенка согреться, как возле сына собственного, нужно сначала потерять всех, одному остаться, в пустых комнатах с мышами беседы завести.
С улицы, от калитки, заметил бесформенный тряпичный куль у перил крыльца. Мешок привалили или кто-то укрылся с головою, поджидая хозяев? Улита?! Дар?! Сердце забилось, шаг ускорился сам собою, а перед крыльцом опять замедлился. Из-под телогрейки шли негромкие хрипящие звуки с посвистыванием. Человек спал. На ступенях валяется четыре окурка. Лавр кашлянул в кулак. Куль навстречу развернулся. На верхней ступени почти вровень с лицом подошедшего Лавра оказался плотненький парнишка в телогрейке. «Не знакомы» – пронеслось с досадой. Но тут же голос заговорившего дал подсказку. «Ерохвост, осади!». Сперва проявлялось воспоминание о месте, где он слыхал ту фразу и тот голос – горка, Святки – и потом всплыли другие слова, обрывки смысла и вся ситуация разом.
– Тоня? Хрящева?
– Уу… какой длинный. Здоров, Лаврушка.
– Христос воскресе!
– До Пасхи далёко вроде.
– Моя Пасха вечная.
– Пустишь? С час тут мёрзну. Сморилась вот.
– Так это ты через форточку?
– Ага, рукой раз, и створку отворила.
– Проходи.
Девушка уверенно прошагала верандой вдоль дома мимо окошка девичьей, мимо двери в комнаты. Лавр затворил за гостьей. Слышный махорочный запах вёл в кухню. Из подмышки Тоня достала сверток. Телогрейку сбросила на лавку возле стены.
– Оладья тыквенные. Остыли. Вот конфекты.
– Что ты мне как дитю? Не носи, Тоня. И полы намыла…зачем?
– Меня теперь Мирра зовут. Мировая революция!
– Антонина красивое имя.
– Ты совсем другой стал.
– И ты.
– Мне про тебя Аркашка Шмидт доложил. Женихается.
– Виделись с ним мельком. Так ты в невестах?
– Фью… От него клейстером воняет.
– Как в детстве. От Аркашки всегда кожами пахло и сапожным клеем.
– Ты один? Теперь одному не прожить.
– Я не один.
– С поповскими?
– От себя или от красной власти спрашиваешь?
– Откуда знашь, что я с ними?
– Видно вас сразу.
– И вас…ладанников. Порченые.
– Верующим быть не стыдно, Тоня. А вот кожаным – позорно.
– Ты когда бояться перестал?
– А никогда и не боялся. Как брат твой?
– Федька – сняголов, бядовый. В начальниках.
Мирра рассмеялась.
– Где же?
– На водокачке. Такой гулявой, девок меняет кажну неделю.
Оба замолчали. Говорить больше не о чем. Лавр занялся чаем. Разжёг плиту, налил воды в чайник. Самовара, пожалуй, на двоих много будет. Достал с дальней полочки непарную чашку для гостьи. Свою чашку взял, твёрдого фарфора с синими жар-птицами. С табурета посреди кухни за его движениями следила девушка в военной форме, качала короткой ножкой, обтянутой узкими мужскими рейтузами. Не знала, куда деть обветренные руки. Из кармана гимнастерки торчал край красной косынки. Короткая стрижка, под «бубикопф», делала её личико мальчишеским, по-детски любознательным.
– Куришь тут?