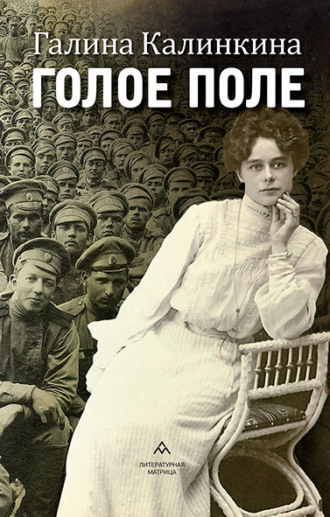
Голое поле
– А не ко всем вы так строги. Я вот заметил, комендант в монастырь бегает стыраверский, беспоповский. Да на Женский двор там ходит. Через Грачёвскую ограду перемахивает. И все ничего. Может, он у них там в наставниках? Или с какой монашкой грешит?
– Кто там у них простец, кто наставник, не важно. Кто поповцы, кто беспоповцы, не волнует. В Хапиловском пруду крещеные или в Иордани – без внимания. Мне больными заниматься надо, голубчик.
Замолчали оба. Снова первым подал голос Тюри.
– Отстраняете, значит? А на жалованье?
– Не повлияет.
– Решение окончательное?
– Изменению не подлежит.
– Без меня ваши лекции лопнут. Не придет народ страждущий.
– Посмотрим.
– Ни шиша. И глядеть нечего.
Трудный разговор оборвался. Держали сердце друг на друга. Наконец Тюри встал и с рамочкой под мышкой отправился в комнату Евгении Арсеньевны за литературой «для чтения на ночь». Доктор зажал фигурку обезьяны в кулаке и окликнул вдогонку.
– А что вы там деликатничали про персонажей?
Старший ординатор по инерции прошел пару шагов, остановившись в гостиной у стола с гобеленовой скатертью, громко хрустнул суставами пальцев.
– Чурикова признаю. Митька с иноком Сережей – шарлатаны. Васька Босоногий – оглашенный, филантроп. Отец Иоанн – не от мира сего, но не Саваоф. Врут все. Все на фу-фу.
– Голубчик, Тюри, а вы? Вы-то кто?
– Я-то? Самовер, из «новых людей» Чернышевского, токмо новее. Новый «новый человек».
1905. Мятеж
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
И даже по выздоровлению, проходя мимо Петровского моста через Малую Невку, я содрогался. Но все-таки как хорош мой секретарский кабинет, этот спичечный коробок, двор-колодец внутри дворцовых комнат. Даже несмотря на лютые сквозняки, я прирос к этому месту.
Однажды, едва усевшись на скрипучий стул и приступив к оставленной на середине листа писарской копии, был вызван к князю. Неожиданно обласкан. Небывалый случай: в тот же день о моем здоровье присылала спросить княгиня. Внимание старших Ю. и вид гарцующих в спешке младших совершенно успокоил меня, и я позволил себе засидеться за полночь над работой, наверстывая. Ночью и извозчик дешевле.
Тут-то они и явились, не мешкая.
Монахи встали передо мной торжественно строго. Пришлось отложить свой чернильный “Регуляр” системы Ватермана (эту удобнейшую с капиллярной подачей ручку привез мне прошлым годом князь в подарок из Парижа). И слушать – что на этот раз? Ожидая начала рассказа, бурчал под нос о тщетности самоубеждения в недужной природе гипнотических галлюцинаций и полном несуществовании Хранителей. Монахи тут как тут, вот они – несуществующие, пожалуйте познакомиться. Ждали, пока я поправлюсь. Объявились и наблюдают, как некто Дормидонт силится унять разочарование. Я почихал в платок для виду, мол, недомогаю. Но монахи не дрогнули.
Дождавшись моей готовности, велели взять зонт – откуда зимою взять зонт?! Но зонт мой, черный с щербатой ручкой и одной поломанной спицей, тут же необъяснимо обнаружился в углу возле сундука-комода. Повели вновь под белые монастырские стены на высоком берегу Сторожи. Теперь здесь не видать биваков французов; все благостно, как на буколических пейзажных картинках. Пасторальная благодать рассеялась в миг, едва мы, склонясь, прошли под низкими сводами монастырских ворот на подворье.
Здесь творилось невообразимое. Волосы на голове зашевелились, и больно стянуло кожу затылка. Мы как бы видели три образа разом, но не плоских, какие бывают на парсуне или иконах, а в объеме жизни. Три события, три сцены, вероятно, разделенных по времени, но для наших глаз видимые одновременно и не пересекавшиеся. Самое кровавое и, должно быть, произошедшее последним – это карательная акция усмирения. Но кого усмиряли?
Ржали кони с всадниками, кружившие у Стрелецких палат, и бесседельные. Конские копыта разбрызгивали красные капли луж, незадолго до того прошла гроза и битва. Дождь накрапывал, но о зонте я забыл под впечатлением от увиденного. По двору разбросаны тряпичные истуканы: вялые, ватные, безжизненные тела людей. Одежда, комканое тряпье – единственно настоящее, что осталось от недавно живого человека. Миг от живого до мертвого. Оступился и нет тебя.
Несколько человек со стянутыми за спины руками ждали участи у стены трапезной. Военные в портупеях и с массивными пистолетами в руках громко командовали, возбужденные сечей. Слышалось слово: мятеж.
Вторая картина – несколько человек у Провиантской башни палками и топорами забивают троих вояк: одного в кожаной куртке, кожаных шароварах и кожаной фуражке со звездочкою и двух других проще одетых, но тоже в военном. Я впервые тогда видел обтянутого с головы до ног кожаной амуницией человека. Человек походил на зверя, на кинокефала, на кентавра, отделившего свое тело от тела лошади. Впрочем, те – с топорами и палками тоже походили на зверей, хоть и в цивильном. По виду они из местных прихожан. Монахи попрятались. Всюду разбрызгано, как звездное крошево, светящееся солнцем зерно. У подклета Троицкой надвратной церкви мешки с зерном, вывороченные, предъявленные из тьмы на свет как улики, как утаенное, подлежащее добровольной выдаче. Видимо, монахи доброй волею спрятанное не отдали. Да и должны ли были?
Картина третья, самая дальняя во времени, – внутри храма Рождества Богородицы вскрытая рака с мощами святого. Не с того ли все последующее и началось? В раке разворошенные золоченые покрывала, кости ключицы и череп – о, снова тупая боль в моем затылке – сохранившийся нетленным, со знакомыми чертами. Мы нагибаемся ближе. И я в ужасе узнаю, отпрянув назад. Каково вам такое: вместе с хозяином того черепа вглядываться в его собственные мощи?! Усопший и живой – живой ли? – в двух образах, в двух ипостасях. И кто из них двоих более призрак?!
Как видите, непостижимыми событиями продолжились мои мемуары о будущем. Зонтик я потерял. И сбегал с монастырского подворья с небывалою прежде прытью. Дождь унялся. Пропали кони, пленники, экзекуторы. Объявились монахи, они плакали. Под ногами попадались злаки, тысячи втоптанных в землю зерен-солнц, а над ними высоко-высоко зависало в своем ничто одно беспристрастное горячее солнце. Сохли лужи, оставляя кровь на траве. А над монастырскими стенами разорялся в две тысячи пудов Большой Благовестный колокол с неразгаданной до сих пор тайнописью на стенках. Казалось, оглянусь, так увижу, как он падает с колокольни, бьется вдребезги, языком своим вонзаяся в землю. Нет-нет, с меня довольно. Не оглядываться. Не пятиться с Воскресения обратно в Среду. С восстания духа в предательство. Нет-нет, с меня такого довольно.
Р. б. и узник монахов Дормидонт».
12. «У Мартьяныча»
С четкой понятностью подступила картина ближайших дней: вот как все у них будет. И разрастающаяся нежность погнала к ее дому. Родион не мог удержаться на месте, помчался видеть ее. Предпочел трамвай, так быстрее с Крестовоздвиженского добраться на Преображенский Камер-Коллежский. Сколько он терзался своим неудачным признанием, с месяц?.. Больше? Вот весна подступила. Не жалел о сказанном, нет, потому как сказал на духу, что чувствовал в минуту трепета божественного снега – окропившего город и их двоих. Но девушка оттолкнула, вскочила в подоспевшую пролетку.
На несколько следующих дней он будто занедужил, будто сдался: неприятен? Или напугал? Меховая муфта как щит, мех как шипы. Подступил к черте разрыва, даже не сблизившись. Во дни смятения учился неистово зло, словно наверстывал упущенное, а упущенного и не было. Обгонял по программе товарищей, горячо говорил о будущем с профессором Даламановым, увлеченно философствовал с Валькой, жарко спорил и перебрасывался соображениями о профессии с Филиппом. Но на самом деле сутки напролет оставался наедине с Женей. Ей открывался в осознании архитектуры как дела жизни. Ее знакомил с современным городским стилем, будто она тут приезжая. С ней дышал.
Женя не знает, как стала ему дорога. Он привыкал к ней. С ней было так, как не бывало с другими. Она – загвоздка, сложнее, чем кажется. Чувства ее не на поверхности. Иногда даже видно, как идет внутренняя работа души, мысли: вдруг затуманивается посреди разговора взгляд, она будто улетает в другое пространство и с трудом возвращается к собеседнику, заметив чужое изумление на свое секундное отсутствие. А отвлечь ее мог хоть блик, хоть елочная иголка, хоть пылинка в луче, звук, нота, тень.
И вот внезапно в воскресенье сорвался с места, решился ехать в дом доктора и рассказать девушке про них двоих. Поделиться снами, извиниться за неловкость первого объяснения. Но и просто хотелось видеть ее. Он ведь, как гимназистик, несколько вечеров в те два месяца кружил возле Дома трезвости, стараясь не попасть на глаза доктору или Вальке. Думал, случайно столкнутся с Женей, тогда он скажет, проезжал мимо или провожал Валентина. Но ни разу не столкнулись. Одним вечером даже под окнами ее бродил, не видными с мостовой, выходившими в сад на монастырскую стену. Но и тени силуэта не удостоился. А как по стене флигеля пробежал фонарик коменданта на вечернем обходе, так поспешил бочком-бочком прочь, ворота запрут, каменного забора не перепрыгнуть. И снова что-то мучительно-сладостное щемило внутри, тащило в непогоду из дому, настойчиво вылезало из-под смущения, дразнило, как мальчишку, стеснявшегося собственного возбуждения. Не что-то, а любовь – с прямотою себе же и отвечал.
Теперь трамвай тащился, как назло. А когда Родион все-таки добрался до Преображенского, купил возле афишной тумбы букетик тепличных фиалок, оказалось, напрасно спешил. В докторской половине никого не застал. Запертые двери: ни письма, ни записки. Кастелянша, впившись зрачками-буравчиками в лицо гостя, сообщила, как самодовольно сообщают вездесущие и всезнающие люди, что дохтур в жандармерии разбирается по поводу обрестованного сталовера, что надысь убил Ивана Грозного. А племянник дохтура на почтамте. А дочка дохтурская вчерась укатила в пролетке с антрепренером и не возвращалася на ночевку. Все враздробь, что за дом такой.
Ступени крыльца вели в две стороны: влево – в сад у монастырской стены, голый и снегу не скинувший, а вправо – к дорожке до уличных ворот. Куда податься: перепутье.
Вернулся в дом. Кастелянша в гостиной продолжает начищать зубным порошком парадные чайные ложки. Внизу тихо, со второго этажа раздаются глухие звуки. А тут за столом песенка вьется неожиданно тоненьким, не воинственным голосом:
«Добродушный святой старецВ гости странничков зоветВы пойдите, отдохнитеПод покровом у меняВечер, сумерки насталиУ Содомских у воротДобродушный святой старецВ гости странничков зовет…»Родион нарушил песенку, кашлянув.
– Ой, переполохалась, че надо-ти?.. Старшой ординатор у себя. И ловриды по палатам. На евоном дежурстве не особо разбредаются, мазурики.
– С каким антрепренером уехала?
– Одному Богу весть. Ищи ее таперича по всему свету. Тот лошадь чуть в стороне держал. А тут она бочком-бочком, знает, комендант вскорости воротчики-то на запор. Тот ей букетик в руки, как кулек пряников копеешных… и свистнул по-разбойничьи… Кони с места. Чистый антрепренер. Но лица не разглядеть, темнело. Ищи таперича по всему свету.
– Следили?
– Самую малость. Я до своих в Фигурный отпросилася. И углядела, как не остановиться-то? Дохтур цельный день нынче хмурился, пока в участок не уехал. И правда, аномаликов им мало, в добавку привели обрестованного. Надо ж Ивана-царя убить… Ой, конец свету приходит, нынешний год – 1913-й – распоследний, Календарёв говорит…
– Зачем так больных называете? Аномалики…
– Дык лысай черт их так прозывает – старшой ординатор. Да и вообще они – козельё.
– Любите это дело – ругаться?
– Люблю я варенье кулубничное. А тебя дохтур поминал намедни: где мол, Тулубьев запропастился, советоваться, мол, надо.
– Подслушивали?
– Самую малость. На межделях.
– А по какой надобности советоваться?
– Недослушала. Ладно иди, что тута карасин жгешь зазря. Вони жгуть. Ты жжешь.
На краю стола подвядали фиалки. Родион со ступеней сбежал направо. Но остановил старухин голос с крыльца:
– Стой, Родивон Романыч…
Вернулся, будто за последним словом. Старуха в пуховый платок кутается.
– Прости безглавую. Записку тебе оставили.
– Господи… Давайте же!
– Коль явится, говорит, так отдай. А я-то про антрепренера, про сталовера обрестованного…
Старуха старалась заглянуть в клочок бумаги, развернутый гостем прямо тут на крыльце в ярком квадрате окна гостиной. Прочитавший скомкал записку в кулаке, поблагодарил и быстрым шагом ушел к остановочному павильону трамвая. Кастелянша поежилась, окинула сад придирчивым взглядом – ничегошеньки с утра не осело: вода под настом стоит. Когда уж весна-то? Всякая весна – Великая. Ни одну Пасху не пропустит. Поежилась да спешно ушла в тепло. А записочку она прочла загодя, разобрала по слогам. И писано там было стройным почерком: «Ждем у “Мартьяныча”. Апостол Петр». Ну, кто ж «Мартьяныча»-то в Москве не знает, известный вертеп. Да апостол Петр к чему тут?
К «Мартьянычу» Филипп, как закопёрщик, прибыл первым. Столик на троих в полуподвале на Верхних торговых рядах заказал заранее, жаль, кабинет достался окнами не на Красную площадь, а в Ветошный переулок. Сейчас, развалясь, принял позу адвоката, выигравшего дело по золотым приискам. Здесь ему нравилось больше, чем в ресторациях на Никольской или в Охотном ряду. Малиновая бархатистость диванов, малинового стекла штофы, мягкий свет. Но все же флер запустения, некая небрежность заметна. Траченый бархат, отбитая горловина, духота против прошлой свежести проветриваемых помещений. Смена владельца с рачительного на равнодушного зачастую ведет к краху даже самое успешное заведение. Известный факт, создававший более печется о своем детище, чем получивший готовое. Официанты – прощелыги, конечно, непременно обведут вокруг пальца, да где не обведут… Нынешний половой, как две капли похожий на своих напарников, обслуживающих кабинеты слева и справа, смазлив и самоуверен: поклон его всего лишь полупоклон, полууступка, и нос чего-то морщит, обнюхивает. Керосин учуял? А Филиппу хотелось за те чаевые, какие он с друзьями может оставить тут, иметь больше к себе внимания и восторга. Но половой, похоже, физиономист, в глазах чертяки юлят и насмешечка на губах гуляет, вот-вот обронит, господин студеозиус, чего изволите-с.
– Братец, испить бы. Душно тут у вас… – закапризничал Филипп.
– Минеральная швейцарская, газовая с сиропом из Антверпена, квас малиновый, квас имбирный, квас с хреном, морс рябиновый, сельтерская первый сорт… Что пожелаете-с?
– Сельтерской…
– Сию минут-с.
– Нет, стой. Содовой.
– Из Антверпена?
– Просто содовой.
– Как скажете-с.
– Пироги есть?
– Как не быть-с… Свежайшие. С капустой, с требухой, картошкой, грибами, с зеленым луком, щавелем, с вязигой, с морошкой, голубикой, ежевикою. С перепелиными яйцами. И высший сорт от шеф-повара – с семгой. Вам с требухой?
– С семгой давай. С собой завернешь, на вынос.
Филипп скинул пиджак, расстегнул ворот белоснежной рубашки, втянул носом одеколон у манжета с фальш-запонкой. Неужто несет керосином? Откинулся на мягкую спинку и уставился в дверной проем. Все три официанта высокие, поджарые, словно балетные мальчики, кажется, раз, и на пуанты встанут, если бы мужчины носили пуанты. Светлого шелка рубахи обвязаны длинными, до мысков, черными фартуками. Передвигаются в юфтевых сапогах легко и бесшумно, движения плавные, будто заученные па выписывают. Огромные серебристые подносы держат высоко над головою и споро пробираются между рядами столиков. Перемещения их походят на танцевальные движения ансамбля, где у каждого «солиста» своя роль. Филипп просил не притворять до времени кабинетные двери, боялся упустить Петрова с Тулубьевым.
Можно было, забавляясь и оставаясь невидимым, из глубины наблюдать за подвыпившей публикой, неуверенной в движениях, громкой в голосе, соревнующейся друг перед другом: у кого больше счет окажется. Пудреные щеки, потные лбы, мокрые усы, сальные улыбки, полуобъятия вожделения, шепоток в ушко, жеманство и гривуазность – вся прелесть человеческой гнусности налицо. Как дики ему эти рожи, как они смешны ему эти анатомические уродцы. Разговора в какофонии не разобрать, но точно говорят не о воздушных перелетах, не о прогремевших Бородинских торжествах, не о новой трамвайной ветке и даже не о хлеб-соль, что царь недавно от староверов принял – немыслимый прежде жест замирения. Да и что бы им о том говорить, когда всякий думает лишь о собственной значимости и успехе, о личной выгоде. Раньше тут публика респектабельнее окормлялась. Да раньше и цены тутошние кусались. Филипп всего один раз и бывал при прежнем хозяине-то, при самом Мартьяныче. Тогда в подростках водил его глава семейства – Гаврила Макеич. А отец – Корней Гаврилыч, должно быть, никогда в подобные заведения и не заглядывал, где ему, ни размаха дедова, ни амбиций. Сам Филипп, как пить дать, в Гаврилу Макеича, не в отца, не в мать – тапком прибитую мышь.
Петров и Тулубьев ожидают, их созвали отметить окончание Школы. Более прочего выпускников волнует будущее. Нынешней припозднившейся весною окончили курс, сдали зачеты. Вскорости их распределят по московским стройкам на практику. А летом останется сдать выпускной экзамен и лети своей траекторией. Но ничуть-ничуть, не одно окончание курса причиною сегодняшнего похода в ресторан. Финичек приготовил им сногсшибательную новость. Не Финичек, а прямо-таки Финист Ясный сокол. И довольный собою доедал третью порцию гусиного паштета и попивал третью бутылку содовой, рассудив, что та дешевле сельтерской будет. Хотя содовая слишком теплая. И хотелось попенять половому, но, глядя на самодовольною рожу «физиономиста», решимости не хватило. Сделал вид, будто всем доволен. И плевать, что официант выражением лица не угостил.
Петров пришел раньше Тулубьева, близоруко оглядывался в зале. Филипп вышел встретить, проводил в кабинет смутившегося обстановкой Валентина. За столиками в центре вопили все громче, сорвав пальмовую ветвь в кадке и приставляя ее поочередно к головам сидящих дам, как перья к шляпкам.
Валентин только что с почты, мать снова прислала денег и подробное письмо о делах партенитского имения. Звала сына на каникулы к морю, интересовалась племянницей и сводным братом. Нынешним летом ожидался первый урожай от новой плантации фетяски сорта «Храм Соломона». После маменькиного письма обсуждали Валькины «долги» по физике и теории геодезии. Филипп божился помочь, как разделается со своими заботами. И загадочно пояснил, что надвигаются на него большие хлопоты.
Родион застал друзей за поеданием курника. Заказали кулебяку, мясную солянку, почки жареные; курник нашли слишком жирным, повторять не стали. Заспорили по выпивке. Вальке хотелось красного вина, Филиппу – шампанского, подобающе моменту. Водку настаивал подать Тулубьев.
– С чего шампанское? – мимоходом спросил Родион. – Водкой обойдемся. Не по деньгам нам Верхние ряды.
Принесли водки.
– Я ни при чем, мне Красная площадь для гонора не требуется, – отмежевался захмелевший после первой же стопки Валечка.
Филипп и не собирался оправдываться, такое место ему сейчас по душе: шумное, многолюдное, где твой успех как бы на виду у всех.
– Экие вы оба, здесь сейчас дешевле выйдет, чем в «Яре», «Стрельне» или «Золотом якоре». Посидим шикарно, а заплатим задешево.
– С чего бы то? Об рекламную тумбу ударился? – бурчал Родион.
– Тулубьев, ваш сарказм нынче прощается по случаю отличного моего настроения. Туточки хозяин поменялся. Больше года, поди, как Мартьяныча собственный сын пристрелил. Слышали?
– Слышали, – тут же откликнулся Валя, – то ли из ружья, то ли из пистолета. Дядя говорил, мальчишка теперь на Матросской Тишине в лечебнице под надзором.
– Ну, да… тот самый случай. Но все-таки из арбалета. У них арбалет на ковре висел рядом с семейными ятаганами.
– И ковер видали, и ятаган щупали? – Родион слухам не верил.
– Тулубьев, ну вот те крест, сам слышал про арбалет. А нынче старшие сыновья в управляющих. И дело отцово держат не так и не то. Фонтан в Лазоревом зале, где даллия плавала, сухим стоит. Никаких гирлянд из цветов. Витражи на простые стекла заменили, зачем спрашивается. Паштет гнусный.
– Курник жирный, – подхватил Валя.
– Правильно, Апостол, курник жирный. А рожи у официантов – плутовские. Но тут дешевле выйдет. Ну, за нас? За триумвират Удов – Петров – Тулубьев! За нерушимую дружбу! За наш верный союз!
– За нас! За союз! – воскликнул Валентин.
– За нас! – поддержал Родион.
Водка холодила, не в пример содовой. Кулебяку доставил половой, доложив: почки жарятся, солянка вот-вот будет готова.
– Э… в кулебяке до двенадцати слоев мяса должно быть, а тут и шести нет. Я тут, можно сказать, завсегдатай. Отлично кухню ихнюю знаю. Дурить стали. Предлагаю, господа, выпить за нас, десятников. Может, это не так и почетно, как за кавалергардов с золотыми эполетами, а все же и мы без пяти минут готовые спецы.
Стеклянные стопочки хрустнули, но не дали звону богемского хрусталя.
– Ну, кто готовый специалист, а кто и нет, – грустно выдал Тулубьев.
– На курс архитектуры останешься?
– Останусь, Валечка. У Даламанова добро испросил, раньше класса экстерном сдам. Параллельно с практикой по десятницкому делу.
– А справишься?
– Справлюсь. Чувствую в себе злую силу… неистовую…
Родион рассмеялся. По груди шло тепло, уходил озноб непогоды, расстройство невстречей. Сейчас, должно быть, и руки ее стал бы просить у Арсения Акимовича, так сосет под грудиной, да вот незадача: ни невесты, ни благословляющего.
Вслед его смеху рассмеялись и друзья.
– Вот и я ощущаю в себе что-то подобное… Как ты сказал, неистовую силу? Да, да, но не злую. Я – добрый, в отличие от вас, господин без пяти минут архитектор. Филипп Удов не может быть злым. Я имею шарм и анатомически ладно скроен, порода такая. Меня природа создала совершенным, большим и добрым. Я – кондиция и даже сочувствую тем, кто не красив. Как живется им?.. Трудно живут, добиваются. А мне часто на блюдечке достается.
– Сомнительное очарование, опасное, – хмыкнул Родион.
– Однако развязался у тебя язык. Ты и вправду, Удов, ладно скроен, залюбуешься: так все в тебе гармонично. Заразительно обаятелен. Румянец вон во всю щеку. А у Тулубьева ямочка на подбородке – признак твердости характера. У меня же бледное лицо и безвольный подбородок, я не умею шармировать[25]. Ты говоришь то, что и сам я про вас думаю. Вам обоим учеба просто достается. У меня же долги… по этой… Филипка помочь обещал. Хотя он большей частью в «Огнеславе» обретается.
– И грезит о золотых эполетах. Разве десятником не престижно быть? – встрепенулся Тулубьев. – По моему разумению, как дело делаешь – вот что важно. Понятно, что за десятником закрепилась дурная слава. И горласт, и разухабист, и нетрезв, и матерится знатно. А мне кажется, можно в работнике видеть равного человека, а не батрака. Отказаться от дурных правил собирать мзду в собственный карман. Мол, не дал десятнику трехрублевочку, так и наряда не будет тебе впредь. Поборы это неправедные. Десятник горазд обещать в трактире, а, протрезвев, норовит обмануть, потому как знает – на его стороне сила: дать, не дать работу поденщику и сезоннику.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Аршин – старорусская единица измерения длины, примерно длина руки от кончиков пальцев до плеча.
2
Психиатрическая больница.
3
Заболевание, «белая горячка», вторая и третья стадии алкоголизма.
4
Десятник – руководитель партии рабочих при производстве строительных или земляных работ, может иметь в своем распоряжении до ста и более рабочих.
5
Кинокефалы – то же, что псоглавцы; зооморфные персонажи из культур разных народов, имеющие человеческое тело и голову собаки, волка, шакала или гиены.
6
Стиль «обезьяний маскарад» или «обезьяний трюк».
7
Молокане – последователи учения духовного христианства, отличающегося символическим и аллегорическим толкованием текстов Библии, в Российской империи были отнесены к «особенно вредным ересям».

