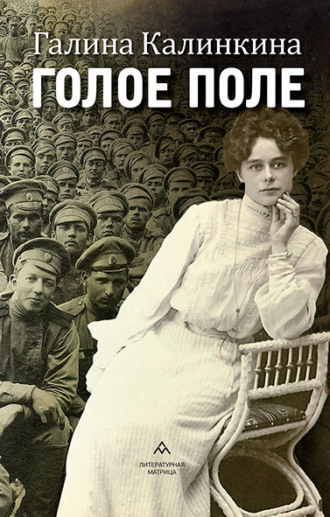
Голое поле
Пауза в делах княжеского родового архива дала мне передышку – никаких видений. Настолько ясное сознание, что все перечисленные прежде истории с монахами, “несговорчивым кабинетом”, висельными письмами, снами Эжена Богарне, кристаллами яда, спортивной гирей, полыньей под мостом казались теперь химерой болезни. В здравом уме я никогда не стал бы ходить по перилам моста, поскольку боюсь высоты. Словом, выздоравливая, решил, что все те истории не приходили поочередно на протяжении нескольких месяцев, а они объявились в неделю недуга, когда я пребывал без сознания в жаре и лихорадке. Когда человек спит – вот тогда все самое главное с ним и происходит.
Прочитав несколько новостей из ежедневной газеты и не увидев ничего устрашающего о доме Ю., я успокоился, отверг самообвинения в помешательстве и настроился приступить со следующей недели к прежним обязанностям у князя. Обычные городские новости вполне примирили меня с действительностью: “Вчера вечером на Верийском спуске была попытка ограбить трамвай”; “Англичанин, купивший мумию в Каире, умер от удара, его друг сошел с ума, секретарь попал под трамвай”; “Внимание прохожих привлекает на улице громадный автомобиль-омнибус, окрашенный в желтую краску”; “В позапрошлом году в Петербурге впервые допущены на империал конок женщины”; “Несчастные случаи, когда трамвай наезжает на пьяных, учащаются в праздник вечером”; “Один хлебопек другому раскроил череп гирей и разгромил дом терпимости”.
Ну вот, и тут гиря. Должно быть, дочь читала из газет, когда я в полудреме пребывал между болезнью и здоровьем. И все смутившие мой ум фантасмагории просто мираж, навеянный реалиями городской неприкрытой жизни с ее трущобами и дворцами, где иной раз мистические события поражают роковым совпадением. Утешает одно: в доме Ю. все спокойно.
Выздоравливающий р. Б. Дормидонт».
11. Кредо абсурдум[21]
Громкие праздники отошли. В обществе «Огнеслав» готовились к весеннему показу полетов перед государем. В Школе десятников приступили к последнему семестру по второму классу выпускников. В Доме трезвости разобрали елку и приняли одиннадцать новых пациентов.
Тюри изобрел для новеньких, поступивших под Богоявление, оригинальную систему распознавания. Доктор категорически запретил нумеровать людей. Тюри предложил сообщить в Преображенскую больницу на Матросской Тишине, будто попечители Хлудовы прислали сверх одиннадцати еще десяток пациентов, а самим Хлудовым сказать, что Матросская Тишина добавила десяток. Так выгоднее вышло бы и с медикаментами, и с деньгами на обеспечение, а излишки можно пустить на прибавку к жалованью персонала. Доктор обозвал старшего ординатора махинатором. Тюри не обиделся. Арсений Акимович – гуманист, компетент, но совершенно непрактичный романтик. И на поводу у дочки ходит, балованной капризной барышни. Она с больными еще в пти-жё[22] играть зачнет, с развратниками-то и пакостниками, с нее станется. В дочери – излишняя чувствительность, в отце – излишняя щепетильность.
Старший ординатор решил не настаивать на нумерации – не тот предлог, чтоб носами биться. Доктор изучал «интересные случаи», вел дневник наблюдений, писал научные статьи для кафедры нервных и душевных болезней. Выписывал три газеты: «Русское слово», «Петербургский вестник» и «Новое время», ежевечерне прочитывая их в целях определения общих тенденций социальных явлений, поставляющих, по его мнению, в Дом трезвости типичных его клиентов.
По утрам Арсений Акимович делился вечерними новостями, которые не успевали протухнуть за ночь. Сегодня его внимания заслужили две новости: первая «Попечители старообрядческой общины Рогожской слободы обратились в городское управление с просьбой провести к Рогожскому кладбищу трамвай или конку» и вторая – «Большинство самоубийц – 32 – прибегли к яду, топились – 5, бросились под поезд и трамвай – 4, выбросились из окна – 3, зарезались – 3, застрелились – 2 и повесились – 2».
В первой новости, о чем доктор не преминул сообщить Тюри на обходе, его поразила хватка старообрядцев, каких-то восемь лет назад имевших опечатанные алтари, а ныне требующих у города прокладки рельс к своему подворью на Рогожке; во второй новости количество самоотравителей в статистике самоубийц – и за шаг до смерти человек ищет легких путей.
По статистике Тюри не мог не согласиться. Вестник регулярно публиковал сведения по суицидам, и «отравители» завидно лидировали, хотя чему тут завидовать.
Персонал увеличился на двух санитаров и двух сестер милосердия. Все опытные, в годах. Из новеньких пациентов выделялись два интересных случая, доктор, должно быть, занес их в дневник наблюдений. Один воет по ночам, другой обнажается, едва оказавшись внутри коллективного сборища: утренней зарядки или трапезы. Приходится силой одевать его, так как он успевает снять даже исподнее и выставить на всеобщее обозрение рахитичную безволосую грудь, а то и вывалить из ширинки распаянный «самоварный крантик». Остальные девять непримечательны: обыкновенные патологические психопаты на фоне запущенного алкоголизма. Тюри издавна беспокоила тема трезвости, вероятно, по причине собственных семейных перипетий, где имелась богатая родословная закоренелых пьяниц, а, возможно, и просто из любопытства к грехам человеческим, к отклонениям нормы, к уродцам из «кабинета редкостей». Если подметить, в его системе координат мир есть кунсткамера, а Создатель – собиратель аномалий и улик.
Сегодня понедельник, стало быть, по расписанию лекция Тюри.
Слушатели по привычке собрались в большой столовой: одни чтобы развлечься, другие за добавкой. На первых лекциях так и завели – подавали клубничный кисель, желе от студня или постные пампушки, чтоб «прикормить» слушателя. Потом комендант и сестра-хозяйка воспротивились: жгут лишнее по вечерам – вырастает расход продуктов, свечей, керосина, электричества. Посчитали, можно проводить лекторий раньше по часам и без прикорма, на одних захватывающих темах. К примеру, доктор читал лекцию о валянии войлока, об удаче в филателии. И ведь вышло зацепить внимание нескольких пациентов, увидать в мутных глазенках промельк разума. Поэт и Солдат кривились на «уроки школы трезвости», но следили более других за расписанием.
Нынче в столовую один из новеньких явился со своею ложкой и монотонно стучал по столу, ожидая запаздывающего ужина. Другой сомнамбулой челночил из угла в угол, не останавливаясь. Третий сквозь зубы гудел, как зуммер, внутренней голосовой вибрацией – жжжзззуууу; у такого нужно было умудриться отыскать тумблер, чтобы выключить на время ему звук. Если тумблер находили (а его место менялось из раза в раз – то за ухом, то на кадыке, то на пупке), тогда больной соглашался умолкнуть до следующего включения. Кличка Зуммер тотчас прилипла к нему сама собою. Метранпаж обучал другого новенького складывать пальцы в двоеперстие: Бог-Отец, Бог-Сын – вместе, а со святым Духом они Троица. У того новенького пальцы, узловатые и закостенелые, и вовсе не сводились, он растопыренными чертил по воздуху и строил козу Метранпажу. Поэт записывал рифмы на салфетках и рвал одну за другой в мелкие клочья, Муза не посещала.
На «былички» Тюри, помимо сгоняемых пациентов, сбегался свободный персонал. Лекции старшего ординатора бывали самыми посещаемыми. Одна кастелянша их игнорировала из злопамятства. Сегодняшние первые пятнадцать минут прошли при полном внимании разношерстой публики, хотя двери столовой то и дело отворялись, скрипя. Запоздал один из ординаторов с новым санитаром. Потом явилась дочка доктора, за нею комендант, промасливший петли из носика жестяной масленки и усевшийся в дверях. Пациенты-делирики более пятнадцати-двадцати минут не могли усидеть на месте, далее их внимание рассеивалось.
Лектор излагал, не поведя бровью на суету.
– Все живущие на Земле есть до поры невостребованные Господом. Вольноотпущенные мы. Верные грешники. Ни в чем другом такого постоянства не обнаружили, как во грехе. Люди – это улики земных грехов. А свидетель, обвинитель и судья – Время. Все происходит в потемках черепахового панциря. Я и сам грешен в питии был, пока не прибился к «чуриковцам». В Спасо-Ефимьевом суздальском монастыре встретился с особым человеком, что собрал вокруг себя братию и проповедовал трезвый образ жизни. А его за то в каземат, в сектантстве обвинили. С полгода отсидел, а за что, спрашивается? Всего-то подал заявку на создание «Общества ревнителей православия». Ну, ему тогда вериги припомнили, таскал, мол, Ваньша Чуриков вериги-то, самоуничижался? Таскал, но возносясь духом. Пьяница ведь тоже самоуничижается, губительно опрощаясь.
– Супу, супу, – заорал новенький с ложкой. – Кукареку!..
На новенького зашикали. Тюри продолжал.
– Объяснял братец Иван заблудшим, каково на их жизнь действует табакокурение и чрезмерное питие. После девятьсот пятого кровавого, принесшего жменю свобод – и почему свободы добиваются на Руси только кровью? – получили люди право на выбор вероисповедания, староверам алтари открыли запечатанные допрежь, а Чурикову узаконили его «Общество взаимной помощи». В гатчинских землях у одного обанкротившегося купца выкупил Чуриков надел. Стал с братией колонию создавать, своими руками с колоска, с гвоздя, с досочки. Животиной занимались, хлеба сеяли. Трактор вскладчину приобрели.
Сомнамбула-челночник из новеньких с грохотом уронил пустой стул и даже не заметил. Все обернулись. Новенький с ложкой, ждавший супу, закрыл лицо руками, вздрогнув от стука. Одного Тюри не сбить.
– Вот глядите, что в руке у меня?
– Сахар, – угадал кто-то.
– Вот такой кусочек давал Иван Чуриков каждому приблудившемуся к колонии, обещая горькому пьянице жизнь сладкую. К одному призывал – к трезвости. «Обет дайте». И ведь выправлялись, рядом с ним трудясь, не табашничая, не употребляя. Не зря его «великим беседником» прозвали. А после привел он братию свою к вегетарианству. То уж позже моего у них пребывания. Я долго на одном месте не засиживаюсь. Теперь слухи доходят, братцу Ивану грозят лишением причастия, коли он не раскается в своих заблуждениях. А и пусть лишат. Многие без причастия живут.
– Власть сменилась, глядите. Свергли царя, свергли! – Солдат выставил вдруг подушку вперед и задрал над головою.
Тюри протянул руку.
– Дай посмотреть? На месте царь-батюшка, в подушке. Трудиться надо, а не бузить. Праздность опаслива. Очищаться надо.
– Грех отпустишь? – напирал Солдат с подушкой.
– Я вам не поп, чтоб на солею тащить. И сам туда не ходок. Но хотя и медицине обученный, а понимаю – никакой медицины без Бога не было бы. Психиатрия самостоятельно не существует. Она есть сфера психологии, а психология говорит про душевные болезни, в каких свободы мало. Болезнь души несет ограничение. А человека даже Господь не ограничивает. Пьяница добровольно лишает себя выбора. Братец Иван Чуриков своим последователям-сопостникам возвращает через сахар и обеты свободу выбора.
– Как Христос? Расскажи про колонию, – послышался голос, и кто-то спрятался за спины впереди сидящих.
– Всякий народ к колонии прилеплялся. Вот однажды прибило к «чуриковцам» Митю Ознобишина из Козельска. Без вериг, а навроде юродивого. Скривлен руками, косолап, ходит наискось. Говорит – не разобрать сразу, пока не обвыкнешь. При нем личный переводчик Елпидифорка. Тот разбирает Митины речи враз, а иногда и приврет малость. Митя эпилептик, калека, аномалик. А в теле той аномалии такая сила необычайная. И с писателями-то он знаком, и с военными, и с думскими. К царице допущен.
– Супу, супу, – заорал новенький и застучал что есть силы по столу. Ложка погнулась. Комендант попробовал отнять ложку, новенький не отдал, но умолк. Рядом недовольно на них двоих загудели.
Тюри хрустнул пальцами и продолжил, вдохновляясь общей заинтересованностью.
– Митя Козельский часто во дворце бывал, пока его не скинуло оттудова дикое существо по кличке «Вытул», а по фамилии Распутин. В газете «Утро России» писано, отец Распутина приставал к его матери, бывшей на сносях, и требовал: «Вытуляй его, вытуляй». Отсюдова и кличка. Нынче Гришка издаля учуял Митину силу, взревновал к влиянию, хочет быть единственным «старцем» возле государев. Позапрошлым декабрем случай вышел…
– Му, муу…
– Да кому неймется? По нужде ли? Так выйди, отлей. Тогда на Ярославском подворье в комнатах архиепископа произошла заваруха. Распутина-Вытула вызвали по поводу наглости его – попом захотел стать. Хлыстовец – в попы?! Скандал. Митя Козельский плюнул в лицо «старцу». Там же якобы хотели и оскопить его за развратность. Усердствовал иеромонах Илиодор, знакомец мой по Почаевской лавре. В народе его иноком Сережей звали. Илиодор умением обладал из кликуш бесов изгонять. В своей епархии монастырь с катакомбами выстроил, крепость неодолимую возвел, тоже возвыситься хотел. А тут рядом кто-то удачнее возвышается. Вызвался помочь спесь сбить с Вытула. До крови сбили. Архиепископ наперсным крестом на колени Гришку установил, велел каяться. Тот в ногах валялся, божился непотребства прекратить и в Царское больше ни ногой. Не сдался бы – оскопили.
Вдруг тоненько, жалобно завыл Черепахов, продвигаясь ладонями вдоль стены. Тюри замолчал, присмотрелся, не приступ ли?
Комендант расстроено ухнул от дверей:
– На самом интересном-то… Уж договори страсти свои…
– Умысла гибельного на Вытула не было, проучив, с тем и отпустили с подворья. А Распутин на мостовой под окнами тут же шум и поднял, из носа юшка, порты разорваны. Кричал, мол, хулу на него возвели, на тело покушались. Газетчики и слетелись, как мухи на гумус. А из Царского села распоряжение – сослать архиепископа и иеромонаха. Но ведь добились же они своего, добились. Вопрос о рукоположении хлыстовца Гришки в попы забыт, и домой его в Сибирь возвернули. Тех двоих сослали в захолустье. А Распутин опять нынче в столице куролесит и ежедневно в газетах мелькает. Про Илиодора доскажу вам, про инока-то Сережу. Слыхивал, будто он прошлым годом, после случая со «старцем», от сана отрекся, расстригся из попов и ушел в «новую веру». Любопытно мне его «Общество Галилея», поскольку и сам я в поисках. Однако после Почаевской лавры не видались мы.
– Про Распутина бы досказал, – попросил один из ординаторов.
– Про него другим разом, отдельно. Зато вот прошедшим декабрем прочел в «Вечернем времени» о Васе-Босоножке или Василии-страннике. Тот тоже в чуриковской колонии бывал. Человек-глыба. Босиком по снегу, по хляби, по льду. Вот так вот без сапог представлен государю со всем своим мировоззрением и идеей выстроить храм в селе бесцерковном. А ведь прежде побирушкою обзывали и в каталажку упрятать хотели. У доктора нашего, Арсения Акимовича, имеется, насколько мне известно, почтовая открытка и марка с Васькиным портретом – редкая вещь. Мало их выпустили, стало быть, со временем в цене возрастет. Вася Босоногий всегда с посохом. Посох его я сам держал в руках – с пуд будет, им хоть лед колоть. Посох с навершием в виде серебряного креста с позолотой, а снизу штык. Молва шла, что сила особая в том посохе. И отбирали у него, и воровали, а посох чудодейственным образом к Васе вертался.
– Супу, супу, – заорал новенький.
– Экий ты неугомонный, – хрустнул суставами пальцев оратор, – режим соблюдать надо и лекцию кончить. Однако Вася всю Россию исходил, всюду деньги собирал на мечту – храм свой. Ему – яйцо, а он – книжицу. От дома, от семьи отказался, с женою развелся, дитя родне отдал, но не по причине пагубных страстей, а из высоких целей.
– Так выстроил? – любопытничал комендант.
– Да, два года назад выстроил-таки храм Знамения Божией Матери. Но по-прежнему ходит по обителям, лаврам, скитам – остановиться не может. От самого Василия слышал о его дружбе с Иоанном Кронштадтским.
Снова грохот, Черепахов сесть собирался, а Солдат из-под него стул выдернул и хохотал довольно. Кто-то тоже засмеялся, первая реакция человека такая: сперва смешное видит, а после чувствует чужую боль. Помогли Черепахову подняться. Пожурили Солдата. Новенький с ложкой воспользовался моментом и схватил подушку бесхозную, царя изнутри свергать. Тут Солдат смеяться перестал и бросился на обидчика. Едва развели их, как Тюри продолжил.
– Отца Иоанна Кронштадтского, молитвенника и предсказателя, приходилось видать в самой крепости Кронштадт. Люди из уст в уста передают и поныне, уж, почитай пятый год с его кончины, как отец Иоанн не единожды предсказывал сильнейшие наводнения в Петербурге. И угадывал. А бывало, и ошибался, вот как с войною. Предсказал, будто двадцать пять лет война будет длиться, а то всего лишь волнения вышли в 1905-м, хотя кровавые. Люди доверчивые видят в нем не последователя, предстоятеля, но и самого Бога Саваофа. На его богослужениях впадали в экстаз, слезами обливались, утверждали, будто протоиерей в моменты наивысшего воодушевления от пола отрывался и в воздухе зависал. Но кому понравится, когда на богослужении перебивают с хоров: «Ты Бог наш, Ты Саваоф!». Слишком умен он был для лести и чужой глупости.
– Жжжзззуууу, – зажужжал второй новенький, – Жжжзззуууу…
Звук зуммера выходил у него похожим: рядом сидящим хотелось от раздражения уши заткнуть. Но и тут Тюри справился ловчее прочих: недолго думая, нажал на сизый пористый нос, и зуммер выключился.
– На своеобычие отца Иоанна падок женский пол, признававший его своим Женихом. «Се Жених грядет в полунощи…» – обмирали перед ним дамочки. Секту поклонниц образовали, отрекались от семейных уз. «Иоаннитки» бились в истерике, клялись в вечной любви, преследовали своего идола. На исповедь к нему очередь в полгода. Глядя на то, отец Иоанн ввел общую исповедь. Вот в Андреевском соборе Кронштадта я его и повидал. Там народу набилось под тыщу, и все одновременно голосили о своих грехах. Думал, шум обрушит купола, а там ведь на колокольне десять колоколов старинных. В гвалте каждый старался перекричать другого, чтоб его исповедь долетела до Иоанна. Не до Бога. Свистопляска.
Тюри остановился. Замер, ожидая мычания или жужжания. Ни того ни другого не последовало. Перевел дыхание и договорил.
– Отец Иоанн окормлял купцов-старообрядцев Стахеевых, те за ним даже пароход присылали в столицу. Месяцев за шесть до смерти сходил он на том пароходе до Елабуги и обратно, всюду по пути следования собирал крестные ходы при неудовольствии жандармов. Помер молитвенник четыре с лишним года назад. Смертью праведника, простившего своих убийц. Даа, обладал человек даром проповеди. И задумаешься поневоле, как он это делал?
Слушатели притихли. Лишь Метранпаж громко хлюпал носом, вытирая слезы.
– Вот какие люди Русь населяют. Пусть они и не во всем чисты, с них за ихнее спросится, а нам за наше отвечать. Но каковы мечты и дела их? Масштабные. А каковы дела ваши? Мизерные да вонючие. Мелкотравчатые вы души. Что видели вы помимо полугара? Блевоту? Вы, имяреки, цените дом, в каком нынче оказалися. Будите душевные движения. Просите прощения у родных, жизнь коих загубили. Трезвитесь. Пост держите. Вспоминайте о себе хорошее. Имейте веру хоть во что, помимо бутылки и штофа. Ищите Бога. Может, и отыщете своего. Кредо абсурдум. Ну, а теперь всем мыть руки. Ограничусь отметить, повариха уж моргать мне устала.
Тюри промокнул лысину платком, заметив, в дверях на стульчике рядом с комендантом сам доктор сидит. Арсений Акимович вышел из столовой первым, за ним потянулись больные в умывальню.
Утром во вторник в расписании все лекции Тюри были вычеркнуты, а напротив ближайшей пятничной стояло имя доктора и новая заявленная тема: «О корабонимике – науке по прозвищам кораблей».
После очередного обхода молчаливый Арсений Акимович удалился к себе без упоминания вечерних газетных новостей. Тюри выждал с четверть часа, спустился со второго этажа и вкрадчиво постучал в двери на докторскую половину. Из глубины комнат едва различимо:
– Войдите!
И сам хозяин навстречу, приглашая пройти из столовой в кабинет. Привычно уселись по обе стороны стола-сенжери с обезьянками.
– Я знал, что придете. Что за запах? От вас, Тюри?
– Да, гвоздичный одеколон. Черепахов сгрыз резиновый шар для пульверизатора. Вот пришлось в ладони, и хоп – пролил малость.
– Так-так. Пульверизатор. Именно что пульверизатор. Пшик…
– Господин архонт[23], отчего сняли мои лекции?
Доктор говорил негромким голосом, но так, что сомнению твердость его решений не подлежала.
– Яркое зрелище, но вредное. У наших больных расшатанность нервной системы. А вы им анархию и нигилизм проповедуете. Блуждание по свету примером даете. Причастие отрицаете. Такие лекции им явно не на пользу. Метранпаж трясся, он ведь через жену-«иоаннитку» пострадал.
Тюри оправдывался:
– Упустил я сей факт. Хотя и старался умалить. И даже деликатно умолчал о собственной оценке персонажей.
– Кредо абсурдум, значит? Вам бы самому вперед разобраться, – совестил доктор.
– Я не чувствую ничего, – без эмоций парировал Тюри.
– Может, это ничего и есть что-то? – не сдавался доктор.
– Ваську покажите. Босоногого, – перевел разговор старший ординатор.
– Марку? Непременно, голубчик. Но позже. Теперь нужно за схемы лечения засесть. Беспокоят двое больных из последних прибывших. Их острая стадия нервирует остальных пациентов.
– Да, последний раз больные так же возбудились, когда фараоны увозили Липкого.
– Полицейская жандармерия? Даа, Липкий – наше фиаско.
– Душегуб. Какая тут наша вина…
– С двумя новенькими нужно что-то придумать, чтобы снять их состояние и приучить к режиму, вовлечь в занятия.
Доктор поднялся, заходил по кабинету. Тюри уведомил:
– На прошлом уроке дала Евгения Арсеньевна задание срисовать вазу. Все справились шустро. Лучше новых срисовали старенькие, из них удачнее всего Метранпаж. На общее удивление он стал похваляться, что один занимался словолитием[24], служил на шрифтолитейном. И умеет купюры подделывать. Надо бы усложнить задачу. Пускай банкноты рисуют.
– Деньги? Нет, это пошло. Предложите рисовать… ну, например, котов. Кот сложнее вазы. Вот, возьмите у меня гравюру. Для образца.
Доктор снял со стены картинку в рамочке.
– Покажите несколько минут и спрячьте. Проверим индивидуально у каждого короткую и долгую память.
– «Подлинный портрет кота великого князя Московии». Видал и прежде ту гравюру.
Тюри повертел картину в руках, оглядел задник. Доктор смотрел укоризненно.
– Все-то вы видали, Тюри.
– Правду, говорю. На ней, сказывают, сам царь Алексей Тишайший изображен в виде кота. Просто художник боялся царя, вот эдаким камышовым котом и изобразил. А камышовые коты, скажу я вам, опасные звери. Раза в три гораздее в холке домашней кошки. Хищные. Такой кот, любимчик боярских палат, хозяину своему воеводе Рюме Языкову глотку перегрыз. Ночью.
– Вот, замечаю, как былички свои поете, так сами меняетесь. Словно другой человек, не медик, а басенник, былинник, офеня.
Тюри завелся.
– А вот чего нету у вас, так другой картинки, какую я тоже видал. Отсылка к энтой гравюре про князя Московии. Однако называется «Мыши кота погребают», слыхали?
– Слышал, но видеть не приходилось.
– Мне довелось их видеть раз дюжину.
– А не привираете?
– Ну, приврал. С пяток видел. Бывают варьянты, где мышей до шестидесяти шести голов. По слухам, «погребение» малевали раскольники.
– Да что вы говорите?..
– Зря иронизируете. Намекали на антихриста Петра и отца его царя Алексея. Мелкая месть. Мышиный парад. Овладение кота мышами.
– Не вникал, голубчик. Мы с вами станем проверять память, внимание и способность пациентов сосредоточиться. Попробуем на рисунках, книжках и списках. Найдите у Евгении книжицы полегче, мои справочники тут не подойдут. Читайте вслух и просите пересказать. Надо понимать, насколько больной способен запечатлеть. Соберите любые предметы, составьте список, зачитайте и просите повторить. Начните с трех предметов, постепенно список увеличивайте до дюжины. Разделим семнадцать больных на четверых. Три ординатора вместе с вами и я.
– Семнадцать на четыре не делится.
– Превосходно, не делится. Тогда я беру на себя пятерых, ординаторы – по четыре. Сходится?
– Когда приступать?
– Завтра же, разумеется. И гравюру берите с собою. С кота Московии и начнем.
Замолчали. Первым продолжил Тюри.
– А что с лекциями?
– Временно я вас отстраняю. Плюсквамперфект. Не назад нужно двигаться, а вперед смотреть. Пациенты наши – заплутавшие люди, а вы их больше запутываете быличками про кликуш, юродивых, блаженных, предсказателей и провидцев. Чистой веры тут нету. Одни магические посохи.
– А где она, чистая вера?
– Меня в свое самоверство не обращайте, Тюри. Меня все устраивает в нашем приходе и катехизисе. А вот что про отца Иоанна умолчали, как он сапоги и рясу бедным отдавал, домой возвращаясь босым, – это не устраивает. Что умолчали про род его, где в священниках служили предки более трехсот пятидесяти лет, – не устраивает. А главное, претит мне ваше ерничество: вроде вы о святом, о благом, а с подвыподвертом. Опорочить, а не прославить, ведь так?

