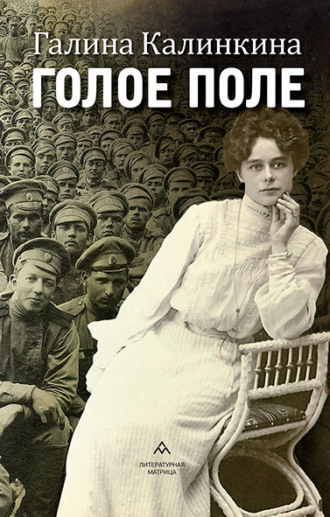
Голое поле
– Ты завтракал, дядя?
– Давно откушал, но выпил бы чаю.
– И я бы не прочь.
– Зови Тулубьева. Заглядывал.
– Да, где он?
В дверь снова стучат, чуть громче, чем прежде.
– Да вот он. Заходите! – откликается на стук доктор.
Входит Тюри.
– День-то какой. Солнце того и гляди лопнет, просто треснет от жару.
– Проходите, Тюри, голубчик. Чаю пить будем. Валентин, распорядись на пятерых. Где-то там Тулубьев бродит.
– Не бродит, – докладывает Тюри, – а аккурат выскочил из коридорной в сени. Налетел на меня, понимаешь, как невсебешный.
Валентин оставляет книгу на столе, уходит в кухню к кухарке. Тюри подсаживается к доктору за стол.
– Что молодежь-то читает? «Конфуций». Знал я одного Конфуция, тот помощником буфетчика служил. Империал проглотил. Его в воровстве обвинили и везли в участок, а он от улики избавиться – раз и в рот.
– И что же, не поперхнулся? – полюбопытствовал доктор.
– Как же, застряла улика. Еле откачали… Несколько позже того.
– Любите вы своими «быличками» чужие головы забивать.
– Да к слову пришлось. А так я с докладом по смирительному дому. Кто-то постоянно прет шахматные фигуры.
Тюри хрустнул суставами крупных узловатых пальцев.
– Никогда у вас не поймешь, серьезно ли говорите или с насмешкою.
На голоса выглянула Женя, но, увидев старшего ординатора, снова захлопнула дверь. Отец заметил прическу с пробором и высокий воротничок сиреневого платья. Тюри продолжал:
– Серьезнее некуда. На той неделе ферзя уперли, нынче коня и ладью. Ну, ферзя нам Тулубьев выстругал. Он строгает лучше коменданта. Мы ферзя покрасили, у Валентина вон черной туши одолжили. Теперь на коня с ладьей занимать надо. Но я не о том. Иду сегодня мимо поварихи, сестры-хозяйки, они картошку чистят, а он им помогает.
– С ножом?! – готов был возмутиться нарушением запрета доктор.
– Нет. Моет чищенную. Я, значит, с почтением: «Как дела-то, матушки?» «А как дела? – отвечают. – Все губительно да греховно, мил человек». Я раскланялся, водицы набрал. И к себе. И тут он мне в спину роняет фразочку: «Между нами легла кровь». Останавливаюсь. Прислушиваюсь. Про Солдата сказ идет. Убью, говорит, Чуйко. Ну, я вернулся, пожурил его, сделал внушение. А теперь, ограничусь отметить, надо бы к нему приглядеться.
– Да к кому? – не выдержал Арсений Акимович.
– К Липкому. Не сказал разве?
Дверь входная отворяется без всяких предварительных стуков, рывком, едва с петель не слетает. С порога Валентин бледный, голосом петушиным кричит:
– Он старуху убьет!
Доктор и Тюри вскакивают из-за стола.
– Да кто он?
– Да где?
– Липкий! В кухне!
Валечку отпихивают, пробегая мимо. Тот на секунду ошеломленно притормаживает в проходе, но на глазах изумленной сестры в дверном проеме несется вслед за доктором и старшим ординатором.
Ковровые часы размеренно бьют полдень.
1905. На мосту
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
Сумбурные миражи на скорости чередовались с картинками фантасмагории, но их отчетливость представала с подлинностью, какой не верить невозможно. В момент серо-застиранного петербургского межчасья, неопределенности времени и времен, мы выбрались из подвалов дворца князей Ю. на обледенелую набережную Мойки, оттуда на Малую Невку. Но на воздухе и морозной свежести ужас не испарился, напротив. Мы с Саввой, как сомнамбулы, брели во весь рост по перилам Петровского моста и, будучи свидетелями продолжающегося кошмара, словно собирали улики происходящего. Под нами во льду стоит река. О равновесии не думалось, я знал: не упаду. Но покачнулся, когда неподалеку раздались два револьверных выстрела. На третьем и четвертом и не вздрогнул.
С перил моста смотрели мы, как в каре дворцового двора бегают люди. Один, другой… и так до пяти. От полицейского участка торопится к мосту городовой. Из переулка выезжает закрытый мотор. Дальнейшее виделось, как в синематографе, передо мною трижды прокрутили одну и ту же сцену – для затвердения, не надеясь на восприимчивость моей психики.
Вижу: младший сын князя, мечущийся по двору с гирею в руке, вдруг падает у высокого сугроба. Пуля? Обморок? Просто пьян? По другую сторону того же сугроба лежит мужик с кровавым пятном на косоворотке. Тот же вопрос: пуля? обморок? пьян? Люди из подъехавшего мотора яростно жестикулируют, будто не могут сговориться, будто вот-вот зачнут драку. Слуги тащут холстину, а молодого князя уносят в комнаты. Те, из авто, заворачивают в холстину мужика и везут его все ближе и ближе к нам. Затащив свою неудобную ношу на мост и стоя совсем рядом с нами – немыми наблюдателями, заговорщики свешивают с перил мешок и отпускают его. Ледяные брызги омочили мне руку.
Водою дело не кончится. Спустя несколько дней извлеченное из реки тело погребут в земле. Но и воды, и земли окажется мало. Ни одна из стихий того мужика не примет. Чтобы окончить столь ужасающее дело, понадобится третья стихия – огонь. Спустя год тело “утопленника” извлекут из могилы и сожгут. Изъятие останков произойдет при событиях более разрушительных: падет царская корона, “отречение” – станет самым повторяемым словом, красный цвет – фетишем.
Когда исчезли монахи и как я спустился с перил моста, как очутился у себя в секретарском кабинете с его сквозняками, показавшемся мне уютнейшим местом после ночной Невки, я не помнил. Решение мое прибыть на доклад к князю никуда не делось. Но пришлось повременить с визитами. В ночном странствии я захворал и слег на несколько недель. Работа моя в доме Ю. встала, не имея уверенных перспектив к возобновлению. Не за ненадобностью, нет, а по моему собственному нежеланию переступать порог дома, где меня преследовали невероятные видения. В навалившемся жаре лихорадки я досматривал, как юный князь Ю., младший из наследников, со своим камердинером, убирал следы засохшей крови на винтовой лестнице и прочие улики в комнатах подвала. С течением моей болезни подробности жуткой декабрьской ночи гасли в памяти, оставляя лишь сами факты – старшему сыну князя предстоит погибнуть на дуэли, младшему – стать убийцей. Мне, секретарю-письмоводителю, предстоит быть свидетелем и вынужденным вестником-гонцом.
Р. Б. несчастный Дормидонт».
10. У Телешёвых
Когда Тюри, доктор и племянник влетели по лестнице вниз в подвал, то уперлись в спину коменданта. Тот, не оборачиваясь, вполголоса зашикал на прибежавших: «Чи, чи, чи, тише, тише», словно дитя разбудят. И все уставились на трепыхавшуюся в руках-лапищах кастеляншу и на самого Липкого за старушечьим телом. Кухонный нож в картофельной шелухе надавил на кадык, и старуха перестала колотиться, ошалелыми глазами уставившись на четверых мужчин и кухарку, сливающихся в одно пятиголовое существо.
– Липкий, голубчик, это ведь не канарейка, – взмолился доктор.
– Кенарь то был. Соседский. Он теперича у меня в брюхе поет. Слышите?
– Слышим-слышим.
– А Солдат, гадина, говорит, не поет кенарь.
– Так что же вы с Солдатом-то не выяснили. Зачем же старую женщину…
– Пошто нож не давала?!
– Липкий, голубчик, вот пустырничку с валерьяной примем, и полегчает.
– Не баюкай меня, доктор. А шагнет кто, прирежу. Все вы – говны.
Об каменный пол громыхнула сковорода, выпав из рук кухарки. Присутствующие разом вздрогнули. Старуха-пленница охнула и часто-часто задышала, вздымая грудь под передником. После доктора в дело вступил Тюри, вращая свирепыми глазами и потея лысиной.
– А и режь, нам ее не жалко. Надоела всем.
Старуха, до того огнем надежды испепеляющая подмогу, враз подогнула ватные ноги, обмякла и повисла на руках мучителя. Липкий пытался удержать тело на весу за епанечку, но упрямая даже в бессознании старуха увлекала его за собой вниз. В тот момент с черного входа вошел Тулубьев с плетеной корзиной угольных брикетов из дровяного сарая. И вопрошающие растерянные лица напротив, и напряженная фигура человека в казенно-больничном с пустой епаничкой в руках и обмякшим телом в ногах в минуту дали ясную картину. Тулубьев с грохотом швырнул корзину в ноги разворачивающейся фигуре и тут же применил удушающий прием, выбив нож из рук насильника. В черной антрацитовой пыли они вдвоем с Тюри скрутили обидчика.
Липкого затащили в изолятор второго этажа, где он тут же забился в конвульсиях, заходясь в крике: «Говны вы все, говны…». Доктор и запыхавшийся Тюри смотрели на извивающегося. Их спокойствие удержало дежурного ординатора от немедленной помощи пациенту. Доктор рассуждал вслух, не меняя позы:
– Насколько мне видно, эпилепсия…
– Падучая. Болезнь шарлатанов и симулянтов… – предположил Тюри.
– Коз и мышей, собак и кошек… – продолжил доктор.
– Халтура. Я лучше сработал, – делился Тюри.
– Приходилось?
– Всяко бывало.
– Что делать будем, голубчик Тюри?
– Не успокоится – в узел его, в смирительную рубашку.
Доктор, обращаясь к медсестре ласково:
– Деточка, четыре миллиграмма на двадцаточку разбавьте. Струйно.
Тюри с дежурным ординатором держали Липкого, пока сестричка ставила укол. После ухода Тюри и доктора больной тотчас затих, вытер рукавом пену с губ и улегся на койку, отвернувшись к стене. Через запертую стеклянную дверь за узником изолятора наблюдал вышагивающий по коридору санитар.
Родион Тулубьев слыл героем дня во всем Доме трезвости. Все, от санитарки до больных, захаживали в большую столовую на него взглянуть. Родион смущался: да чем обязан? Кастелянша, едва пришедшая в себя, бледная и без обычного гонора, кормила спасителя малиновым вареньем из неприкосновенного зимнего запаса и причитала: «Ешь, Родивон Романыч, ешь, мил человек, спас ведь, свободитель, спас, а тот-то, злыдень лысай, слышь, баит, надоела всем, режь ее. Палкой бы его почистить, палкой. Ешь, свободитель, ешь, ни мами, ни папи у тебя тута, хошь вареньем наишьси. А тот, супостат, налетел как хранцузские беспальцы…» «Вестфальцы», – поправлял Родион, уписывая малиновое варенье.
Не явилась взглянуть на героя лишь дочь доктора.
Женечка заперлась у себя, предварительно обо всем расспросив брата. Тот описал поступок Тулубьева в красочных тонах, сам же поспешил выразить восхищение «спасителю». Доктор с Тюри уединились в кабинете, и до Жени через стенку доносился их разговор на повышенных. Слышались слова «ЧП», «инцидент», «полиция». Кажется, на этот раз инициатором идеи обращения в полицию стал сам доктор, а старший ординатор его отговаривал.
Суматоха, вызванная утренним казусным событием, к сумеркам улеглась. Женя снова забралась в постель в домашнем платье и принялась перебирать события вчерашнего вечера и сегодняшней ночи на елке у Телешёвых. Под подушкой нащупала уголок сложенной вчетверо газеты. Что, собственно, выяснилось? Ну, подумаешь, влюблена. И он – простой десятник. Ну и что же. Зато у него необычные планы, мечты и желания – он не такой, как все.
Накануне платье, вернее блузу и юбку, по нынешней моде называемую за узость «хромающей», примеряли в доме у Бочинских перед выездом на бал. Женя шила на глаз, зная размеры подруги: та выше ее самой на полголовы и чуть гибче, в мужской одежде и вовсе – строевой юноша. Зося осталась довольна Женечкиным костюмом «русской красавицы» с сарафаном и кокошником, как и своим видом – эмансипе, хотя и шутила, что пошла бы на бал-маскарад в летном костюме, который носила гораздо охотнее женского платья. Девушки, переодеваясь, дурачились, тискаясь и целуясь, заглядывая в напольное зеркало-псише, поворачивая его под удобным углом и выбирая выгодный ракурс, где полуобнаженные брюнетка и блондинка, смуглая гитана и белокожая барынька, высились в полный рост, ладно скроенные, изящные, словно ожившие мраморные хариты[18].
Потом шофер Бочинских вез их ночным вымерзшим городом с Токмакова переулка Басманной слободы на Покровку. Под луной крупные соцветия снега, кружившиеся в мареве газовых фонарей на окраине, электрических – ближе к центру, в холодном свете фасадной иллюминации и в голубом пламени факелов у питейных заведений, и в тепло-желтом оконном свете, падали как бы сквозь прозрачные подсвеченные картины и сами искрились и фосфорицировали, кружась, будто божественный небесный фейерверк вспыхнул над всем городом и всем миром сразу. Местами на мостовую обрушивалась музыка из заснеженных парков и так же внезапно смолкала с поворотом за угол или с порывом ветра. Редкие ямщицкие лошадки мирно трусили, по обыкновению, празднично позвякивая бубенцами, то и дело уступая дорогу конке, трамваю, мотору или омнибусу. Вот-вот, и частный извоз вовсе сойдет на нет. Пешеход торопился. Один праздник позади, до другого считаные дни.
У Телешёвых в разгаре веселье: благотворительная лотерея собрала толпу, со сцены большой гостиной читают модных Брюсова и Блока, в курительной смех и тосты, а в зале люди в карнавальных масках водят хороводы вокруг раскрасавицы-елки такого роскошного убранства, что зальная елка на Преображенском валу сразу поблекла. На здешней голубой и пышной ели переливалось несчетное количество стеклянных трубочек-сосулек и крашеных шаров, прозрачных звездочек, солнышек, совершенно невозможных в Доме трезвости из-за своей хрупкости. Всюду свет сквозь хрусталь да огни свечей в канделябрах для пущей торжественности. Оркестр то ускорялся, то замедлял игру, давая бостон, гавот, мазурку, салонную венгерку.
Подруги быстро потеряли друг друга из виду, оттиснутые в разные стороны живым людским ручейком. Женя глазами искала брата или кого-то из Телешёвых. Венгерку сменил русский трепак, и тут Женечку, в ее-то сарафане и кокошнике, вызвали в середину, где отстучала чечетку «цыганка». Женя не худо отплясала, поставив руки в боки, сменяя ногу с пятки на носок, задорно кружась, плавно ведя плечами, словно царевна, гордо и чуть капризно. Вокруг «царевны» двое молодцев, один в гусарском наряде, другой в казачьем, пустились вприсядку. И запыхавшись от жара волнения, вспоминая танец графинечки Наташи у дяди, Женя заметила знакомые лица, обращенные к ней из круга: восхищенное брата, любопытное Филиппа и приветливое Родиона.
Вот, кажется, в суете, шуме, толчее весь праздник и состоит, если не считать трепета его подготовки. Валентин и Женя встретились со старшими девочками Телешёвыми, обнимались и поздравлялись. Заиграли падеграс и, скучая его танцевать, Женя оказалась рядом с Филиппом в большой гостиной, где слушали поэтов. Полумрак в глубине контрастировал с торжественным свечением бальной залы в раскрытые настежь двери. Поэтам хлопали и вызывали на бис. Но Женя не вникала, хотя стихи любила и много знала наизусть, ее смущало близкое присутствие Удова. Он как бы невзначай, то ладонью, то костяшками пальцев, в тесноте комнаты касался ее запястья, плеча, бедра, снова запястья. Сегодня Женя не учуяла запаха керосина, почувствовала незнакомый мужской запах, который хотелось слышать и привыкать к нему. Запах напомнил ей гофмановские капли или винный уксус. Камлотовый[19] пиджак Удова идеально сидел на нем, и вообще весь облик молодого человека выдавал не один час, отведенный на продуманный туалет. Филипп во время особо ярких аплодисментов склонял голову к Женечкиному уху, повышая голос и договаривая фразу, почти касаясь губами ее кожи и щекоча висок девушки ее же прядями, волнующимися под чужим близким дыханием. Женя краснела в полумраке над своим глупым, детским смущением – не в первый раз за ней ухаживают. Но, может быть, в первый раз так настойчиво, неприкрыто.
– Ваш брат на практике вместо землемерных работ устраивал школу софистики. Работяг представлял древними греками, – потешался Филипп.
– Да, Валя – гуманист, – Жене хотелось защищать брата. – У Валентина есть характер. Просто он его не выпячивает.
– Но так глубоко прятать тоже не стоит. И я люблю Вальку. Удивляет его привычка в каждую церквуху зайти на поклон. С ним положительно невозможно ходить пешком по Москве.
– А Тулубьев? Тот с характером? – спросила вдруг Женя.
– Даже чересчур. Иногда его уверенность и правдолюбие раздражают. С ним скучно, как с законченным домом. Одержимый. Нельзя же все время говорить о контрфорсе[20], люкарне, палладиевых окнах… В мире есть иное, Женечка: та же поэзия, авиация, подземка, синематограф. Но я и Родьку люблю. У нас настоящая мужская дружба. Ничем не разбить. Вот как у вас. Кстати, где Зося?
И снова от близкого дыхания волнение кожи. Женечке хочется потереть висок и мочку уха – так рядом его губы.
– А у вас что за характер?
– Мой характер питает меня силою, какой я сам боюсь, но с какою добиваюсь всего, чего хочу. Захотел поступить в Школу десятников – и вот в лучших учениках. Захотел обучаться на аэропланах – и вот в «Огнеславе». Мой портрет недавно в газете печатали.
Умолчала, что купила газету с портретом и достает ее из укромного места каждый вечер перед сном.
– Скоро об Удове не так заговорят. Я ведь в десятниках не останусь. Из нас один Тулубьев пойдет по десятницкому делу. Ему нравится пыль со стройки. Мне на втором году скучно стало. Полета хочется, высоты, знаменитостью быть, чтобы ходить и кивать. А тебя бы все узнавали. Вон-вон, известный пилот идет, Удов Филипп Корнеевич.
Девушка рассмеялась.
– Вы шутите?
– Отчего же? Именно так и желаю. И все на путях судьбы преодолею, добьюсь. Мне много лет снится один и тот же сон: о золотых эполетах.
Захохотал. Рядом зашикали: не даете слушать.
– Я где-то читала, человеку свойственно себя преувеличивать, – откликнулась Женя.
– Ничуть. Я так точно нет. Ну что же, идемте искать авиатрису и пропавших десятников.
Филипп увел Женю из большой гостиной. В дверях навстречу попались Петров с Тулубьевым. Зося мелькнула на повторной мазурке в паре с уланом, снова затерялась. Объявили вальс-гавот, и, к разочарованию Женечки, ее тут же пригласил Тулубьев. Чуть досадуя на нерасторопность Филиппа, Женя подала руку его другу. Еще не отдавшись танцу и вниманию нового кавалера, Женя проследила, куда обратился весь Валечка. У окна разговаривала с уланом Зося. Метким взглядом Женя заметила надрыв по шву на Зоськиной юбке, должно быть, и чулок виден при ходьбе. В своих мыслях совсем отвлеклась и забыла о партнере. А партнер вел надежно, крепко обхватив за спину и отпуская в нужный момент на расстояние руки, бережно и в то же время властно привлекая обратно к себе. Серо-холодные его глаза, сейчас смеющиеся, близко-близко встретились с ее глазами и, кажется, прочли и про досаду на Филиппа, и про чулки подруги.
– Вам идет русское.
– А вы отчего без маски?
– Даже в детстве не любил.
– Хорош ли бал в Школе десятников?
– Вполне. Выпускницы Мариинского училища приглашались.
– Воспитательницы из Хамовников? Что же, весело было?
– Не скучнее здешнего.
– Вам скучно?! Тогда зачем же вы тут?
– У нас уговор: где мои друзья, там и я.
Женя глазами искала зеленый китель брата и светлый камлотовый пиджак Филиппа, но там, где расстались, их нет. Не видно ни Зоси, ни улана у окна.
– Если кто серчает на человека, Женечка, что тот ему испортил ожидания своими поступками, то серчает на Бога. Кто как не Бог одобрил тому – другому – его поступки?
– Верно-верно. Но к чему?
Танец окончился. Тут же заиграли фигурный вальс. Нашли свободное местечко под высоченной раскидистой пальмой, танцевать расхотелось.
– А я где-то прочла, человеку свойственно себя преувеличивать.
– Вот тут правда. Свойственно. Иногда себя боюсь, в зазнайство бы не впасть.
– Ваша прямота поражает.
– Характер такой от имени. Родион-Ледолом. Ледоруб-правдолюб. Но иного и не хотел бы. Честным быть правильно.
– Честным проще. А вот лукавым тяжче.
– А брат ваш честностью своей мается. Стыдится сказать, что думает.
– Знаете, я рада вашей дружбе с братом. И отец рад. Мне Валечка хоть и кузен, а на самом деле совершенно родной, душа моя.
– Самому странно, как взрослое дело нас сдружило. Десятницкое. Валентин говорит, мы братья. Из ликийского города Патары. Родион приходился роднею апостолу Павлу, а с апостолом Петром проповедовал. Родион и Петр вместе смерть приняли. В один день и час.
Женечке кто-то закрыл глаза ладонями.
– Акациевая пудра. Зося?
Бочинская растормошила подругу.
– И что вы тут такие чинные? Все на головах ходят. В курительной стреляться собрались. Весело – страсть. Сейчас я вам своего знакомого улана представлю. За шампанским ушел. Где же брат твой? Где Удов?
– Куда ты пропала? Оставила меня одну.
Родион, казалось, снова смеялся серыми холодными глазами. Женечка приняла промелькнувшую во взгляде насмешку на счет распустившегося шва юбки и почти обиделась за подругу. Зося, порывистая и возбужденная, утянула за руку пробравшегося к ним Валентина и закружилась с ним в бостоне. Каблучки-танго ее синих замшевых туфелек, весело мелькавших под надорванным подолом, не оставляли сомнений: она сама и устроила своей юбке «разрез чересчур». Валентин упредить не успел, что из-за косолапости не танцор вовсе. Среди пальм бродил улан с двумя бокалами шампанского, тщетно разыскивая свою даму.
– Ей бы хабанеру танцевать, а не вальсы, – заулыбался Родион, глядя на кружащуюся пару одного роста: друга и Бочинскую.
Девушку в кокошнике приглашали незнакомые молодые люди. Но Тулубьев не дозволял. В ней слабо протестовало: с чего бы? Но она не противилась, сникла. Так бывает, сам праздник менее захватывает, чем его приближение. Удова они больше не встретили. Пропала и Бочинская, должно быть, уехала с уланом, оставив Валю. Веселье пошло на убыль.
Домой возвращались с братом на извозчике. Тогда по дороге и сейчас с воспоминаниями у себя в постели тревожили слова Тулубьева, сказанные при расставании в шестом часу утра в заснеженном малолюдном переулке. Друг брата, кажется, защищал ее даже от мерно падающих снеговых хлопьев.
– Черешневый снег.
– Как черешневый?
– У вас шапочка и ресницы в лепестках.
Брат стоял в трех шагах от них и наблюдал, как разворачивается пролетка из длинной очереди ждущих разъезда гостей. Куда-то в поднятый воротник ее шубки Тулубьев внезапно приглушенно выдохнул: мне кажется, нет, уверен, я влюблен в вас. Она ничего лучшего не нашла, как инстинктивно оттолкнуть муфтой: вдруг вздумает поцеловать, пусть не в губы, но и не туда, над ухом, в висок, где еще горело дыхание его друга. Отпихнула. Не ответила.
В пролетке ехали молча. Брат не расспрашивал, сам где-то витал, приоткрывая глаза на ухабах и пряча в шарф блаженную улыбку, в которую растягивались сомкнутые губы. Лицо его при том становилось по-детски беззащитным. Косая челка темно-русых волос, смешной худенький нос, как у задиры-подростка, и ямочки на щеках – такое лицо не назовешь красивым, а милее нету; открытое, обнажающее добрую душу лицо.
Несколькими часами позже, в полдень, произошла в доме на Преображенском кутерьма с неприятным типом Липким. Нет, сперва случилась зеркальная встреча в дверях с Тулубьевым, о котором, едва проснувшись, думала. Увидев его, испугалась не собственного вида со сна, не полупрозрачности капора, а вопрошающего лица напротив, ненужности возможных объяснений и своего сознания, что вот, кажется, даже снился. Потом все закрутилось, не оставив день мирным: нападение на кастеляншу и припадок с Липким, рассказ брата о своевременности появления Родиона в кухне. Дар своевременности, как сказал Валечка про Тулубьева. Теперь за стеной резкий разговор отца и старшего ординатора о полиции и жандармах.
Нужно Тулубьеву отказать от дома. Отец расстроится. И брат. Тогда просто объясниться, пусть поймет: никогда невозможно ее ответное чувство, потому что она, потому что… Не договаривая прежнее, сказала себе другое: «Отсюда и есть мой выбор: ничего не решать окончательно. Окончательно все решено без меня. Все решено за всех нас».
Все в доме нахваливали Родиона. А Женечке хотелось жалеть его. Никакого у него дара своевременности, вовсе несвоевременно он обнаружил свое чувство. Когда женщина отставляет поклонника, сохраняя свою свободу и независимость от его чувства, она слегка жалеет отставленного и выказывает ему повышенное участие. Ну что ж, она приголубит его, утешит, проявит внимание, даже несмотря на его смеющиеся глаза. Но сегодняшний герой в жалости не нуждается. Решила так и потянула из-под подушки за уголок газету. С портрета на нее смотрело улыбчивое лицо в шлеме и очках пилота.
1905. Пауза
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
Совершеннейшего выздоровления желали мне монахи. Издевка. Нет, ну, войдите в положение, пусть в крестцовом радикулите виноваты не ночные прогулки, а дворцовая промозглость. Но причиной моей психической неустойчивости послужили вовсе не сквозняки.
Во дворце я сказался больным, что являлось двойной правдой. Домашние заметили мой жалкий вид, жар, бред, порывы нестись обратно во дворец, откуда недавно вернулся едва живым. Меня принудительно уложили в постель, вызвали доктора. Прописанный покой, аптечные снадобья, облепиховый чай и время вели к благотворному исходу: через неделю я пошел на поправку, через другую стал выбираться из кровати и бродить в размышлениях по небольшой, но сухой и теплой квартирке. Внуков ко мне не допускали, боясь обеспокоить. Дочь зачитывала вслух письма от нашей крымской родни, опечаленной моим недугом. Писала пространно-подробные ответы под мою диктовку. Так я постепенно приходил в нормальное состояние, избавляясь от недуга и одновременно откладывая свое возвращение к князьям Ю.

