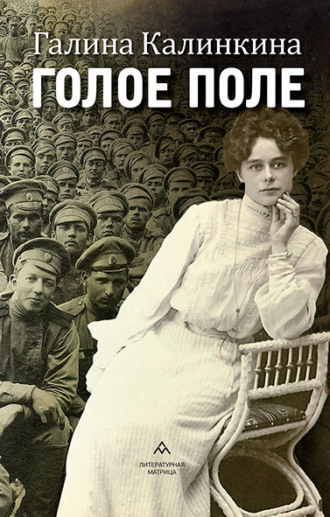
Голое поле
Поразительное дело, читая Символ веры вслух или про себя наизусть, каждый раз пускаешься путешествовать в вечности, в неисчезающей древности, к шести дням создания мира, к не протухающим истинам, к истоку, к точке взрыва,
где ты учишься веровать – Господи, помоги моему неверию, – и созерцаешь образ Вседержителя, Творца всему видимому и невидимому, образ Марии Девы, воплотившей Сына,
где ты идешь за Сыном вочеловечившимся на допрос к римскому прокуратору – Понтийскому Пилату,
где наблюдаешь страдания распятого Христа (гвозди, уксус, копье) и погребение, за которым встает в третий день Воскресенье,
где будто надмирный пир идет, на котором Сын Человеческий сидит справа от Отца и неподкупным Судией судит живых и мертвых и меряет их поступки на весах добра и зла, а Царствию Его нету конца,
где Дух Святой, какому поклоняются, как и Отцу Миров и Сыну, Единице в Троице и Троице в Единице, разговаривает с тобой через пророков,
где веришь ты во всемирность и соборность святой апостольской церкви,
где принимаешь единокрещение для оставления грехов своих,
где ждешь восстания мертвых, вечноживых родных и близких, глядящих на восток, и где чаешь прихода невероятного, сквозь времена и расстояния, города и империи Будущего Века.
За сим недостойный путешественник,
капля, колючка, крошка, песчинка,
р. Б. Дормидонт. 1905 г от Р. Х.
Да, упустил, во владении князя и княгини Ю. три завода и рудники, пять дворцов и пятнадцать доходных домов, тридцать имений с усадьбами – шутка ли. Имущество требует инспекции. Ну, а на мой, плебейский, взгляд, или ты его или оно тебя. Имущество – это прорва, гидра безжалостная, уймища, бездна, гибель».
7. Ножницы
Сестра-хозяйка или, по-иному, кастелянша есть старушка любопытствующая, ни один узелок не пропустит, ни одну сумочку, ни котомку, ни шубейку. Пальто и калоши пересчитает – сколько в доме нынче народу, кто тута, кто тама. Каждого из насельников по головам пройдет, на месте ли, каждого из домочадцев отследит, возвернулся ли к ночи. Прежде чем спуститься к себе в комнатушку полуподвала, дверь уличную всякий вечер проверяет: на засове ли. Окна, фортки, ставни. Свечи погашены ли, лампадки у икон. Ворчит, бурчит на последним пришедшего. Комендант грызся с ней, что сам двери запрет, его обязанность, неча тут топтаться. Старушка для виду согласится, да через четверть часа за комендантом проверит. Ей уж и ответят, кто рядом оказался, – заперто! Она все одно сама убедиться должна. А то и прежде коменданта запрет и скажет, ключи потеряла, да где ж они? «Под левой сиськой», – рявкнет комендант и отопрет двери, даже если через пять минут сам же снова и закроет. Кастелянша и в дела старшей медсестры лезет, та с жалобами к Тюри. Тюри приструнит старуху, да ненадолго. Все ниточки должна в цепких пальцах держать. Не старушка, а урядник. Авторитетов для нее нету. Так из любопытства и докучливости вся жизнь ее складывается.
Кастелянше доставало любой реплики в ее сторону, и она тотчас заводилась. Из всякой мелочи разжигала жар скандала. Даже и простейший бытовой вопрос: наливать ли вам супу – немедленно приводил ее в неистовство; она презрительно фыркала, строила гримасу наисильнейшего недовольства и разражалась тирадой возмущения, как будто бы ей в супе, напротив, отказали.
Говорят, у себя дома она кляла всех подряд из родни, скопом семью, каждого в отдельности, картинно заламывала руки и, запрокидывая голову в потолок, причитала: нулем сделали, кто я для них? Нуль полнейший. Из вредности нанялась в смирительный дом по соседству и здесь обрела наконец значимость: домашние приходили раз в неделю ее навестить, а она ходила к ним в гости «на чай», тут неподалеку, в глухом Фигурном переулке в один дом, напротив единоверческого храма – наведывалась с проверкой, все ли там у них дома без нее как надо. А в больничке, несмотря на сварливый нрав и скандальность, пользовалась покровительством доктора. Доктор ценил старуху за порядок в хозяйстве.
Кастелянша всех вокруг подчинила себе, а не сошлась лишь с Евгенией, докторской дочкой. Критиковала и подвергала сомнению всякое Женечкино предложение по празднованию Рождества и Нового года в «Доме трезвости», как называл Преображенскую больничку Тюри. Женя сперва спорила, отстаивала, доказывала. Потом попросту решила делать по-своему. Старуха разорялась на весь первый этаж:
– Никому ничего не надо. Никакого порядку. Грецких орехов требуют, лошаки стоялые. Ловриды, дети иродовы.
Женя изумлялась:
– Ужасные у вас злобы. А я вот сегодня отложила шитье и с четверть часа на мотылька смотрела… Крылышко с перламутром как у ракушки. Век бы сидеть над былинкой или муравьишкой каким, и пробовать разгадать, как он понимает мироздание.
– Ну, есть чем похваляться-то… пустяковиной! – возмущалась старуха.
– Бывает такая мелочь, пустяковина нерукотворная – что важнее всего: гимна, флага, закона. Тень, промельк, пушинка, семечко-вертушка, знак Небес. Наивность иногда встает выше насущности и являет грандиозность замысла Творца о всякой твари.
Кастелянша пуще прежнего возмущалась.
– Именно что твари. Лодыря одни тута. А моль надобно прибить! Что глазеть-то…
– Большой такой мотылек, почти бабочка. Между рам. И все думала, на волю его выпустить, но там холод – верная гибель, или в неволе держать до весны? Отворила рамы…
– И туда ему и дорога, на двор. О мотыле, ишь, думает. Пустое. Вздор несешь, бессмыслицу.
– Нет, я в комнаты его пустила. Каждая бабочка спросит с мира за пыльцу со своих крыльев.
Кастелянша поджимала губы и качала головой. Женя стояла на своем:
– Не понять вам. Вы зачем к обеду разложили все приборы сразу? Вот ведь нарочно?
– Ты же прежде бранилась, не те приборы сервировали. Мало ей. Теперича много. Вилка для пирожного… пфф… чудно.
– Так принято. Да в конце концов, так удобно. Не станешь же десертной ложкой есть бульон, для этого есть бульонная. Или соусной есть мороженое…
– Я порядкам обучена. Куверты[17] знаю. Но по мне, так все одно: ложка и ложка. Чего для мяса и рыбы разные вилки развели? Мучение мое, натирай их мелом.
– Поварихе поручите, – парировала Женя.
– Когда ей? На двадцать душ варит. Ты бы вот не бездельничала, помогла б на межделях натирать-то к празднику.
– И мне некогда. Два платья шью для бала: себе и Зосе. Украшения собрались с Тюри делать для елки. Привез ли комендант орехов? А елку добыл?
– Некогда ей, слыхали? На моль таращиться четверть часу сыскала время. Про орехи сама коменданта пытай. А подруге твоей зачем юбка вузкая, кода она в штанах кожаных щеголяить – форменный ямщик, только что без коняшек.
Женечка догадывалась, в чем причины распрей и постоянного старухиного осуждения: все не так. Можно даже попробовать сделать так, а все одно выйдет не так. Старуха ищет большего влияния на доктора, что, в свою очередь, добавило бы ей влияния на остальных. Отсюда постоянные контроверзы. Потому в глазах Арсения Акимовича подвергаются сомнениям распоряжения Жени. Но дочь доктора сдаваться не собиралась – с чего бы? В хозяйстве больничном пускай свои порядки устанавливают; в домашних же делах дочь придерживалась правил «как при маме». Папенька не замечает противоборства возле себя. Да и заметил бы, Женя уверена, и сам не сошел бы с позиций «как при маме». Вот и в ней, дочери, он видит знакомые черты своей любви, так рано ушедшей; зачем медицине учиться, если и близкому не помочь, – угнетает его неразрешимый вопрос. В дочке он замечает тот же норов, характер, внутреннюю пружинку, не видную до поры, как и в матери, бывало, но при случае распрямляющуюся с внезапной силой сопротивления. И Женечка за собой «пружинку» замечает и знает об отцовом согласии на ее собственное право решать, поступать, как заблагорассудится. Папенька верит в ее благоразумие, папенька видит в ней взрослого самостоятельного человека. Она хоть и рукодельничает, хоть и зовется в семье «кисейницей», а вовсе не кисейная барышня.
Так приятно предвкушать «елку», готовиться к ежегодному рождественскому балу у Телешёвых, вдохновенно шить два наряда: себе в «русском стиле», Зосе с «хромающей юбкой». Кое-что из вышивок на кисее и шелке приняли в Модный дом Ламановой, особенно охотно взяли работы мережкой и ришелье. Приемщица передала, что сама Мадам одобрила работы, велено по шелку снова приносить, а по льну и хлопку до лета не требуется. Удалось неплохо заработать и вполне хватило на рождественские подарки брату и отцу. Валентину купила футляр для чертежных принадлежностей, сам синий сафьяновый, а внутри яркого песочного цвета; видела когда-то такой оранжево-сочный цвет на дне реки, тогда старица ушла в новое русло. Не подозревала даже, что речной песок может быть настолько насыщенно рыжим. Папеньке приготовила настольную лампу, медную, с увеличительным стеклом. В последнее время ее «старик» стал жаловаться на зрение.
Рождество и Новый год самые трепетные праздники – вровень с Пасхой. Но Пасха и Троицын день – все же другое, там больше Божеского, больше отстоящего от тебя самой. А в Рождестве Господнем мирского более, человеческого, где Сам Бог с Небес сошел на землю и приблизился к человеку, Бог человеком стал. И более невероятного свершения на Земле не наблюдается. Новогодние дни дороги воспоминаниями о матери, о той семье, где Женечка чувствовала себя безоглядно счастливой. С маменькиным уходом на мир не смотрелось благостно – первая близкая смерть, отрезвляющая. И вот теперь они живут в Доме трезвости, прижилось название с легкого – без костей – языка старшего ординатора.
Прежде на телешёвские балы ходили вдвоем с матерью, отец первый выход дочери «в свет» сопровождал, потом взмолился – увольте. От хозяев городского имения Телешёвых приходили загодя, до двадцатого декабря – начала каникул, именные приглашения на три лица. Надушенные фиолетовые конверты вручал лакей в ливрее екатерининских времен и парике. Сколько предстояло суматохи: поездки в салоны, модистки, куафёры, продумать мелочи от цвета перчаток и бутоньерки до мысков туфель, выглядывающих из-под бального платья. Собрать подарки всем Телешёвым, веселому добродушному семейству, проживающему в собственном доме на Покровке поколениями больше ста лет. Упаковать, обернуть, обвязать разноцветными лентами каждый и не забыть, кому какого цвета лента предназначена. Потом музыка, вихрь, кружение, глаза, улыбки, глаза…
Теперь все небрежнее, разнузданней, доступней. Как будто распустили не одни дамские корсеты. И времена нестрогие, и праздник проще. Теперь Новый год навсегда связан с горьким осадком и привкусом оставленности. Траур Женя сняла через полгода, два платья из черного крепа отдала бывшей прислуге, которая с семьей доктора в «сумасшедший дом» переезжать отказалась. Платья и вуаль сняла, с сердца налет горечи не снимешь. Никогда не забыть летние вояжи с матерью к тетке в Партенит, заплывы в гроты, пикники у греческой базилики, их вечно проветриваемую сквозняками, просоленную йодистым ветром, с раскрытыми настежь окнами, словно взлетающую как Летучий Голландец дачу. Занавески никуда не спешили, плыли по рейду, обещая счастливую жизнь. И задыхаешься от нежности, вспоминая не свою детскую, не маменькину спальню с альковной кроватью, куда дозволялось залезать лишь до шести лет, а чулан партенитского дома. Принято думать, что пыль не пахнет. Напрасно. Пыль пахнет нетронутостью вещей, упорядоченностью, тишиной замков, тьмою мешочков, венчиками выцветшего укропа, висящего головами соцветий вниз, как летучие мыши. Пыль чулана пахнет залежами счастья. Детскими годами, комнатой, залитой горячим солнцем, минутным ощущением восторга, пойманного в ладони, как солнечный зайчик. Там, в иных мирах, будет все: райский сад, яблоки, диковинные звери. Но пыли там не будет.
Под утро снилась мама, качала головой, спрашивала: а ножницы-то, ножницы? Женя мучилась разгадкой, терзалась. Грудь распирала духота, тугой, душный комок неразрешимости. Будто дверь толкаешь по противоходу, а та сопротивляется напору, и не отворяется, и не дает избежать опасности. Сон измучил бессилием, Женя проснулась. Выдохнула – ох, всего лишь сон, комок с груди подался ниже, катясь и тая, в паху исчез без следа, и тут осенило: ножницы! Ну конечно, ножницы! Вечером, когда весь дом отошел ко сну: комендант запер двери, кастелянша за ним проверила двери, окна, свечи, лампадки, когда дежурная сестра милосердия встала на пост, больные утихомирились, тогда Женечка тайком вышла в гостиную и на крышке рояля кроила «на глаз» из нарядного жаккарда сарафан, а из «газовой» ткани блузу. Проработав до второго часа ночи, довольная выкройками, собрала материал в охапку, нитки для наживления, иголки, тряпичный метр сложила в мочесник со звездой Алатырь – мамин подарок из последних, охранительных. Свет в гостиной потушила и, умиротворенная, тотчас уснула, едва прилегла у себя. А ножницы, ножницы-то забыла! Отец, старшая медсестра и Тюри строго следят, чтобы у пациентов не было доступа к медицинскому инструменту, к колющим и режущим предметам, о чем и кастелянша, и комендант, и кухарка предупреждены.
Не зажигая керосинки, не разбивая огнем зимней утренней мглы, босиком, в одной батистовой сорочке, пробралась из спальни, через «докторскую» столовую, через коридорную, в гостиную залу. Тихо, дом спит без огней, не больше пяти утра; ай да маменька, упредила. Из подвала долетел глухой одиночный стук, должно быть, кухарка поставила чан с водой на дровяную плиту под жестяной вытяжкой. В габардиновых шторах намек на вызревающий во дворе будничный день. Босым ногам холодно и отчего-то колко, голым плечам зябко, два-три шага в полутьме до рояля… И вдруг сбоку чужое дыхание или полужест, или задверный холод – крупная черная фигура. Солдат? Липкий? Метранпаж?
– Ой! Кто здесь?!
– Я.
– Не троньте, не троньте!
– Я не трону…
– Не приближайтесь. Стойте, где стоите.
– Стою.
– Отвернитесь.
– И так ничего не видно.
– Отойдите на три шага.
– Куда?
– Нет-нет, не сюда. Обратно.
– Обратно?
Женя воспользовалась замешательством фигуры, бесшумно подлетела к роялю, ощупала ладонью прохладную поверхность. Нету! Ножниц там, где оставила, нету.
– Верните!
– Что?
– Что взяли.
– Ничего не брал. А… это…
Фигура протянула руку. Женя потянулась навстречу. Наткнулась. Больно. Но тут же вцепилась в ледяной предмет крепко-накрепко, миг, и она выдернет, она победит неразумного, блуждающего ночью по спящему дому.
Но свет вспыхнул раньше. И с порога гостиной на двух людей у рояля, соединенных протянутыми руками, смотрели комендант и кастелянша. Старуха поджала губы и качала головой: так, так, голая, так, вдвоем, наедине с этим, так, так. Двое у рояля, на миг ослепленные верхним светом, щурились на входящих, потом обернулись друг на друга. Женечка выдернула, наконец, ножницы. Обхватив руками грудь, крест-накрест, как на причастии, бегом-бегом босиком по иголкам, в сорочке, к себе. У Тулубьева глупый вид: растерянное лицо, крестьянский зипун, подвязанный кушаком, а за кушак заправлен топор рукояткой, каким в роще за Хапиловкой срубили высоченную – едва вдвоем доволокли – ель.
Комендант деловито просовывал принесенную веревку под колючие зеленые лапищи, пытаясь крепким «шлюпочным» узлом обвить ствол, а Родион поднимал дерево вверх к потолку. За крюк под круглой зальной люстрой собирались привязать веревку для прочности – народ в Доме трезвости всякий. Вот от всякого и надо уберечься. Справились быстро, до подъема насельников и домочадцев, до утренней гимнастики. Снег с нижних веток-лап и с валенок растаял. Сестра-хозяйка и за лужицы не ругалась, и за иголки на полу не бранилась, ходила вокруг ели и несвойственно ей нахваливала. Родиону показалось, будто не тем довольна. Но он и не думал про чужую злокозненность, перед глазами сливово синели соски под тонким батистом.
Мгла за окном рассеялась. И подвисло шаром духоподъемное солнце. Морозно. Тулубьев остался у Вепринцевых завтракать, уговорились с Валентином идти на каток – каникулы. Женя больше не уснула, рано вышла к столу. За завтраком они и встретились. Доктор ел яйцо в мешочек и обсуждал с Валентином свежий номер выписанной из столицы новой газеты «Русская молва» со статьей поэта Блока.
– «В России достает довольно таких читателей, которым смертельно надоело выискивание в искусстве политических, публицистических и иных идей…», – зачитывал вслух доктор. – Тут дальше Блок говорит «о противоположности города и деревни…»
– Наслышан о его программе… «гарь и фиалки». Дядя, ты излишне восторжен.
– Блок выступает «против хулиганства и хамства в искусстве… стоит говорить не много, а стоит говорить важно». Вот! Как хорошо сказано!
Женя, сидя напротив гостя, пила чай и смотрела прямо и открыто в лицо Родиону. Родион сначала боялся увидеть девичье смущение, а встретив смеющийся взгляд, ответно заулыбался. Перекинулись парой слов полушепотом, как заговорщики. Доктор и племянник, поглощенные спором о статье «Искусство и газета», ничего не заметили между теми двумя.
А потом на застывшем Хапиловском пруду Родька чему-то улыбался, срезая углы на скорости. Радуется отдыху от учебы – думал Валентин про друга. И тоже гонял что есть сил на прогулочных коньках, избавляясь от давления библиотечной духоты, вбирая воздух, волю, запахи зимнего леса. На пруду стояла сквозная тишина, казалось, вздох твой разносится на полмира. Тулубьев на поворотах под скрип коньковых лезвий, разрезающих прудовую тишину, вспоминал влажную поволоку сине-голубых глаз из-под так близко вскинувшихся ресниц и слова ее.
– Долго принимала вас за нанятого мастерового, никак не за однокашника брата. Пока Валентин не пояснил про Кекушева и Школу десятников.
– А сегодня за кого приняли? – ласково спрашивал Родион.
– За делирика. Ножницы им опасны. А тут вы с топором, – Женя отвечала, посмеиваясь.
– А я вас за привидение принял. Бесшумно крадется что-то белое, невесомое, бестелесное.
– Испугались? Забавно вышло, если бы не кастелянша… Ведь извратит понапрасну.
– Ничего никому не скажет.
Родиону веришь, тут уж увереннее не сказать.
– Я слово к ней знаю. А ель-то хороша? Комендант давно приглядел, просил подсобить. Рано, а в роще от снега бело. В глухозимье в лесу тихо. А лес не прорежен, заброшен.
– А я лоскутов припасла, наряжать станем, – поделилась Женя радостью детской.
Родион вдруг решился.
– Едемте сегодня с нами в Сокольники, на коньках.
Женечка ложечкой серебряной стук-стук по скорлупе яичной. Пальчиком скорлупу отковыривает, и смеясь:
– Вот сложите узор обратно, как было, тогда поеду.
Теперь катались на Хапиловском пруду вдвоем с другом, в Сокольники не собрались. И губы у Родиона сами собой расползались в улыбку; давно ведь Валентинову сестру заприметил, с первых дней на Преображенском Камер-Коллежском валу. А кастелянше он и вправду слово сказал. Отозвал в сторонку, чтоб не слыхал комендант, и укорил. Нельзя в Доме трезвости наливку держать, за трубами в тайничке прятать. Нехорошо. Узнает доктор, рассчитает вмиг, домой вернет, тут неподалеку, через дорогу, в глухом Фигурном переулке в один дом.
1905. Сон француза
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
В стародавние времена считалось, человек дойдя до края земли, достигнет судьбы своей. А то и по ту сторону земного странствия окажется – потому немногие решались на поиски края земли. В старину все принималось за то, что оно есть, а не за то, чем кажется. Раньше, если человеку снился сон о Боге, тот сон воспринимался как призыв, как заклик послужить Вседержителю. Тогда шел человек в монастырь или в отшельники. А сейчас если Господь кому приснится, никто мира не оставит, скорее, снова спать пойдет, чтоб следующий сон видеть.
Но мой добровольный Путеводитель по прошлому и будущему миру – монах Савва – рассказал, как во сне говорил с одним молодым французом – высокопоставленным вельможей, генералом конных егерей итальянской гвардии – во времена «нашествия двунадесяти языков», отстоящего от нашего времени почти на сто лет. Спал тогда генерал, а монах бодрствовал и посетил его сон. Той осенью войско знатного генерала подступило к реке Сторожи под самые стены монастыря. А муж его матери Жозефины – Наполеон Бонапарт – в те же дни стоял на реке Мжуе, и от Можайска нацелил свой горящий взор на Москву. События нам известные. Но подробностей знать не дано было. И тут я посвящен в тайны Хранителей.
Конные егеря, пехота и гвардейцы, сильно потрепанные в ожесточенном сражении под Звенигородом, но победившие русских, заняли монастырь. Полководец конных, молодой генерал Эжен Богарне не спешил навстречу к отчиму-Императору, он хотел дать отдых своему войску. После краткой передышки и генерал поторопился бы за славой – Москва манила близостью капитуляции в Русской кампании. Стало быть, монастырь подлежит поджогу. Богарне не был благодарен монахам за приют, а его солдаты ждали команды: поднести факела к пороховым запалам.
Но Савва не мог допустить разорения! Монах навестил Эжена ночью. И так же, как мне, старику-письмоводцу, не разжимая уст, не отводя глаз, не поднимая рук, объяснил, как опасно трогать место Божьего приюта на земле, как недушеполезно прослыть неблагодарным. Монах медленно и вдумчиво водил “гостя” по монастырю, из одной кельи в трапезную, из подклета на колокольню, на монастырскую стену, с какой по обе ее стороны видны костры, костры, костры. Запретил входить в алтари, останавливался на солее, разворачивал перед французом иконостас и брел к выходу. Караульные не замечали две бесплотные тени. За ними двумя вставали и брели все прежде погребенные здесь в стенах и за стенами: каменщики, зодчие, иконописцы, братия, крестьяне, ремесленники, косари, горшечники, бондари, кузнецы. И казалось, войско русских растет. Генерал взмолился: отпусти, пощади.
Наутро Эжен Богарне увел свой Четвертый корпус, не выспавшись, но и не тронув монастыря. Факела опустили в бочки с водой. Солдаты разочарованы, но подчинились, надеясь на более богатую наживу. Оказывается, Богарне уцелел в неудачной для французов Русской кампании, и, продлив себе жизнь на двенадцать лет, стал немного погодя пэром Франции. Подробности, поведанные Саввой, поистине невероятны. Как медленно приходят к нам наши желания и как быстро проходят сны.
Для соблюдения
р. Б. Дормидонт-Мистик».
8. Свой квартал, свой город
Елка, бал – это для гимназистов. Валентин собирается и зовет, Филипп рвется и дни считает. Родион раздумывает и не поддается уговорам. Не в упрямстве дело, просто беспечное детство давно ушло. Хотя детство – это насовсем, но праздники более не радуют, утратив прежнюю трепетность и завесу сказочности. Давно открылась другая сторона жизни, беспощадная и неумолимая. Да и интересы сместились в сторону серьезного дела. Все-таки он находит в себе уверенность в правильности выбора десятницкого пути. Проектировать сперва в уме, потом на бумаге, а в итоге даже и в реальности возводить на земле здания из дум, снов, планов есть самая важная задача. Ищешь настоящего дела, большого, важного, нужного людям и городу. Ему не чужды поэтические и философские размышления друзей, кто ж не любит порассуждать, но и дело кто-то должен делать, дело делать, господа. Ум его направлен к конкретному и практичному, устремлен в ближайшее будущее, где, получив дипломы, окончив курсы специализации по горному делу, лесному хозяйству или городской архитектуре – на выбор – они смогут вести самостоятельные проекты и приносить пользу.
Его взгляд устремлен на старинные городские дома и постройки в новом стиле. Родион всюду через шум города выхватывает мысль автора, голос зодчего, вкус архитектора, узнаваемость почерка. Он выделяет работы Шехтеля, Кекушева, Виктора Орта. Их идеи вдохновляют, он знает, что хочет, как хочет. Нужно практикой вырабатывать собственный стиль, который возьмет от модерна, ар-нуво, франко-бельгийского стиля лучшее, но выразит свое, русское. И следующий, тринадцатый год, есть для него последний год перед стартом, последний подготовительный год. Он наметил строить свое к концу наступающего, 1913-го, когда найдет заказчиков и проекты. Он выстроит свой дом, свой квартал, свой город. А если Филиппу и Валентину кажутся такие сроки шапкозакидательством, то уступить им можно не более полугода. Стало быть, до лета 1914-го архитектор Тулубьев заключит свой первый полностью самостоятельный контракт на масштабную застройку. Он сдал на архитектурный конкурс Северного страхового общества свой проект постройки типовых гимназий. Конкурс объявит итоги весною-летом, он уверен в успехе. Он ежедневно корпит над воплощением своих идей, готовых к показу известным в городе мастерам. В Школе десятников обещали протекцию, у профессора Даламанова широкие связи. Но Родиону хочется всюду пробовать самому, без протекций. Он так погружен в собственные догадки облегчения материала без потери прочности, что совершенно уверен в своей правоте. Ему и каникулы лишние, время впустую. А елки – детские забавы.

