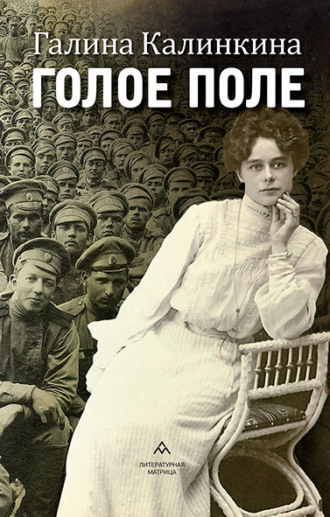
Голое поле
Знавшие У. Ф. ни на йоту не удивились выбору им летного дела. Скорее их удивление возникло бы при слухах, что У. Ф. сделался бухгалтером заготконторы, присяжным поверенным, десятником строителей или, что уж вовсе невозможно, держателем прибыльного бизнеса – погребальной конторы. Но нет, в авиаотряде воздухоплавательного общества «Огнеслав и Ко» он вполне оправданно прослыл завсегдатаем летного клуба и авиационных митингов.
На сегодняшнем авиамитинге ожидалось показательное выступление основного авиаотряда «огнеславцев». Акция загодя готовилась с тщательными репетициями, проверкой техники и подбором участников. Собрались вместе авиаторы, публика и, наконец-то, выправилась программа. Погода дозволяла. Выстроены дополнительные открытые трибуны – народу из города набралось порядком; в комнатах летного штаба накрыты столы с шампанским и мороженым от «Мартьяныча». В ровном ветре вьется прирученное мачтой полотнище флага. Новичков к участию в показе не допускали. Но летчик У. Ф. неосторожно назначил в день показа свидание на летном поле одной интересующей его особе.
Когда впервые встретился с нею глазами, ему страшно стало. Потом так странно делалось им обоим: в толпе или просто кучке людей на акциях «Огнеслава» они часто выхватывали друг друга взглядами: сначала случайно, а после уж и нарочно выискивая знакомое лицо. Он заговорил первым и из того минутного разговора понял: барышню зовут Зосей, она дочь состоятельного родителя, и сама не чужда летного дела. У. Ф. едва успел начать знакомство с подходящих фраз, как собеседницу окликнули по имени.
– Зося!
– Да, папа.
– К «Гномам».
Девушка в «летной» куртке и кожаных штанах ловко приподнялась на ступень «Фиат Зеро» и, отъезжая от здания клуба, резко выкрутив руль, махнула новому знакомцу. Он неожиданно для себя дернулся, побежал за авто и через ревущий мотор крикнул: Филипп Удов.
Филипп слышал про французский завод «Гном-Рон», выпускающий в Москве авиационные семицилиндровые моторы. Стало быть, отец черноглазой барышни имеет дело с французами.
В Школе десятников преподаватели, слушатели и, конечно, его друзья, Петров и Тулубьев, стали замечать примесь касторки и керосина при появлении Удова в аудитории. Что он только не делал со своей одеждой: вымачивал, проветривал, утюжил. Мать его – подбитая тапком мышь – прокладывала белье лавандой и листами герани, но от белья по-прежнему несло смесью касторки и керосина. И нужно было что-то отвечать на прямой вопрос Родиона, тот всегда излишне прям, до резкости:
– Касторовое масло? Ты в шоферы подался? Бросаешь Школу?
Тут же вступил Валентин, вечный примиритель:
– Ну почему бросает? И почему шофер? Может, провизор?
Все трое рассмеялись, провизором с колбочками и пробирками Филиппа никто не представлял и сам он себя тоже.
– А ты, Апостол Петр, скандалов боишься больше неуда по тригонометрии.
И тут же снова Родион с пристрастием к Филиппу.
– Женщина? Признайся, все дело в женщине?
– Тулубьев, ты излишне недипломатичен. Просто надо искать перспективу. А нынче перспектива в воздушном пространстве. За авиаторами – горизонты будущего. Одноместные аэропланы скоро будут у каждого человека. И человек с крыльями сможет покрывать расстояния в тысячи верст за какие-нибудь полчаса. А я знаете какие фигуры стану исполнять? Ого-го! Как заложу вираж…
– А синица в руках лучше.
– Да, Валечка, Школу десятников не брошу. Специальность почти в кармане. Было бы глупостью. А в глупости Филипп Удов никем не замечен.
– Так откуда же касторка и керосин?
– Валечка, ты как дитя. Касторовое масло не высыхает. Его доливают в топливо, им смазывают узлы и сочленения. А керосин, скажу я вам, оказался довольно въедливой штукой.
После того внезапного выяснения обстоятельств меж троих сложился молчаливый уговор не касаться авиационной темы до выпускных испытаний. Было понятно: Филипп укрывает новое и отходит от старой дружбы, по-прежнему числясь в лучших учениках Школы десятников.
Запах вошел первым; керосин не спутать ни с чем, он и касторку забил, и аромат гиацинтов. После комнатная дверь впустила мех – длинную полу когда-то шикарной лисьей шубы. И потом, одновременно с голосом, появился в комнате пилот Удов. Так передала Филиппу его появление Зося, приняв букет и знакомя его со своей подругой:
– Женечка.
– Евгения Вепринцева.
И вместе с движением вперед, с шагом от стены, навстречу протянутому цветку гиацинта заволокла его влажная поволока сине-голубых глаз. Сине-белый рисунок бисера на складках аметистового платья, блеск синих камешков в мочках ушей и лазоревый цветок в руках составили картинку из яркого пятна на фоне скучных деревянных стен в секции почетных гостей клуба.
– Филипп Удов, испытатель и авиатор.
Будто Филипп Четвертый Красивый, сын Филиппа Третьего Смелого из династии Капетингов представился. И что же? Кто его может упрекнуть? И как приятно быть на кураже.
После состоявшегося знакомства подруги устроились у вытянутого в стороны, словно амбразура, окна. Вся открытая площадка мельтешила людьми. Высокое солнце чуть задето сизыми облаками.
Удов, сославшись на участие в четвертой «двойке» и ретировавшись, прохаживался в шубе, шлеме и летных очках по кромке поля, поглядывая на две хорошеньких головки в амбразуре гостевой ложи. Здесь внизу гремел «Коль славен» в исполнении приглашенного городского оркестра. Удов, прохаживаясь, судорожно искал выход. Как выкрутиться, ведь после двух пробных полетов на аэроплане с инструктором к участию в авиамитинге ни под каким видом его не допустят.
Черные глаза насмешливо провожали его, будто зная о Филиппе Удове несколько больше, чем он о себе выставил; сине-голубые проводили благосклоннее и с искренним интересом. Он не мог проиграть чужим ожиданиям. Стало быть, нужен выход, нужен решительный бросок, поступок, жест позитуры[12]. Нужно просто сесть в любую посудину с запущенным двигателем и вырулить. Все равно перехватят. Решено. А там пусть судят за самоуправство. Или он победит и не будет судим. Девушки правы, как идет ему летная форма, как ладно сидит комбинезон, шлем, очки. Всегда важно хорошо выглядеть, это составляющая успеха.
От «решенного угона» с возможным фиаско его освободило вмешательство силы большей, иного порядка, чем человеческая. Ровно на вылете второй «двойки» забегал у линии старта телефонист со сведениями телетайпа о резком изменении погодных условий. К телефонисту в кучку прибились инструкторы, техники, пилоты, сигнальщики. И действительно, буквально у всех на глазах в считаные секунды багряные лучи превратились в пыльно-розовые и вскоре вовсе исчезли под плотным серо-снеговым надвигающимся маревом. Мачтовый флаг зароптал, вырываясь с флагштока. Окошко-амбразура в клубном здании захлопнулось с сухим стуком.
У Филиппа груз с души, как вода с решета; рассмеялся в голос, рядом даже кто-то обернулся. А что – решенное дело. Вот Родион-Ледогон помог. Все привычно разрешилось без усилий. Глупо признаваться двум красавицам, что ты всего лишь учишься на десятника. Как это прозаично: школяр, строитель. То ли дело авиатор. Оркестранты с трубами потянулись вереницей в здание штаба. Полеты отменили, но угощения никто не отменял. Удову оставалось сдать шубу знакомому пилоту, и можно, как не развенчанному герою, влиться в общее веселье на приеме «Огнеслава». И запах теперь сработает на него. Идя к эллингам и кутаясь в лисий мех, спросил себя начистоту, по-тулубьевски: Финичек, и что, угнал бы аэроплан? И сам же себе ответил: угнал бы. Разогнался бы, приподнялся хоть на два фута, а там… И жизнь пошла бы совсем другою траекторией. Или вообще оборвалась.
На следующий день газеты вышли с репортажем о воскресных полетах. Сердце просилось вскричать, я там был. Но острая зависть срезала: фамилия Удов не звучит. Кругом Сикорский, Сикорский… «Утро России» рассказывает, самый интересный номер воскресного авиационного дня – полеты на побитие всероссийского рекорда высоты – из программы состязаний был выкинут. Авиаторы ссылались на облачное небо, которое закроет их от публики, на сильные воздушные течения на высоте свыше 600–700 метров, на испорченные барографы и лететь не желали. Удивительно хороши фигурные полеты, победителем в которых оказался Жабер на «Блиндермане». Интересен перелет с аэродрома на Поклонную гору, в котором принял участие все тот же Сикорский. Один пилот на обратном пути заблудился и долго носился почти над самым городом в непогоде.
1905. Тясицу[13]
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
Прошлую запись вынужден оборвать, не дописав фразы и подписи не оставив. Чуть было сызнова не попался за крамольным делом. Вызван к князю на деловой тет-а-тет: оказалось, ожидается с визитом японский архитектор, разговор с коим необходимо стенографировать. Уговорились как прежде: дверь секретарской в Гобеленовую приоткрыть. Для лучшей слышимости. Ох, не подхватить бы инфлюэнцу. Сквозняки во дворцах – те же непременные атрибуты, как мыши, коты и привидения.
Он снова приходил. Нет, не японец, а монах Савва. Я держал в уме вопросы, ждал его. Но в присутствии одеревенел и позабыл начисто. А он неотворенными устами передавал знания о своем времени, как хорош и чист был воздух его лавры на Сторожи, куда из Москвы вел царский тракт, дорога богоизбранных. По той дороге не один век будут приезжать на поклон все русские правители к его смиренному безжизненному телу: князья великие, цари с царицами, императоры и императрицы. Войдут в его подворье, склоняясь, как простолюдины, въехать не смогут: надвратная арка намеренно низка.
Савва передавал, не отворяя уст, не отводя глаз. Не одно лишь пограничное дело исполнялось монастырем на Сторожи. Там и обучали, и исцеляли, и иконы писали, и парсуны малевали, и книги рисовали кистями да перьями, там давали приют сиротам, там разбойников постригали в монахи. И каждый час там беспрерывно молились, не обрывая молитвы ни днем, ни ночью, ни в зной, ни в стужу. Хорош был монастырский воздух, да весь вышел. Нет, сам монастырь, может, и видится по-прежнему вам семиглавым на холме, но духа больше в нем нету, благости нет. Ушли из него монахи. Псеглавцы[14] их изгнали, кинокефалы с красными звездами на шлемах-буденовках. Прервали непрерывную молитву. Я живо представлял себе по рассказам монаха Саввы псеглавцев, видал их на образах. Но представить буденовки не мог.
Да, а стенографировать пришлось договор о тясицу – чайном домике в японском стиле, который готовится в подарок княгине. Речь идет о постройке в Таврической губернии, в урочище села Коккозы. Строительство тясицу неподалеку от летней дачи должно вестись тайно, так, чтобы принимающая морские ванны княгиня ни о чем не догадывалась. Сам чайный домик изнутри украсить древними изречениями. Садик возле тясицу устроить таким образом, чтобы, прогуливаясь вокруг дачи, княгиня неминуемо вышла бы на тропу с фруктовыми деревьями, количество и разновидность которых должны нарастать по мере удаления от дачи и приближения к чайному домику. Тропа пускай бы привела к сводчатому берсо[15], обвитому лианами винограда. Одно берсо переходило бы во второе и третье. Вдоль дорожки устроить фонарики и, наконец, у порога – питьевой фонтанчик. Вход в домик оставить в японских традициях – низким, чтобы всякий входящий из гостей хозяйки, склоняясь, терял свою спесь, гордыню и воинственность. Чуть было не написал, ну, прямо как у Саввы в монастыре. Вовремя удержался. Причем тут Савва? Подарок должен быть утаен до именин княгини по осени. Задаток выдан. Вторая часть суммы по факту предоставления проекта, третья после постройки. Две подписи под договором.
Князь Ю. и архитектор остались довольны друг другом. Японец, уходя, похвалил не гобелены, не коллекционный фарфор в горках, не сами сандаловые горки за ценность породы дерева, а естественный полумрак Гобеленовой; всякому японцу дорога похвала тени.
За сим и для соблюдения —
р. Б. Дормидонт-Мистик».
6. Расписание лекций
Валентин у себя в комнате, через стенку с дядиным кабинетом, возился с расписанием лекций. Когда доктор предложил всем желающим читать лекции больным, его поддержал один лишь Тюри, готовый вовсе не сходить со сцены. Валентин сорвал с двери косо приколотый канцелярской кнопкой обрывок: «Тюри ежедневно, в три часа пополудни, в столовой». И расчертив лист писчей бумаги твердой, поставленной рукою, кропотливо выписывал вензелями новое расписание.
Каллиграфически выводя буквы и орнамент по углам, думал о покинутом доме у моря. Ведь в Москву он поехал за-ради матери. Как не стало отца, мать взвалила на себя ворох хлопот по имению и двум виноградным плато по обе стороны Аю-Даг. Валечке казалось, правильнее сыновний долг исполнять возле матери, взять на себя трудности, ранее не ощутимые, а с уходом отца вдруг вылезшие таким числом, что непонятно, как они прежде решались одним человеком. Нет, конечно, имелся управляющий и нанимались рабочие из местных, которых отец ценил, обучал, выпестывал из них специалистов по винодельне. Но узел всего большого прибыльного дела зажимался в отцовой пятерне. Теперь же мать ездила то морем, то сушей с одной стороны горы на другую, поднималась в зной на мыс Кучук-Аю по древним генуэзским ступеням, ночевала в летних домиках на пути, задерживаясь на плантациях по нескольку дней. Прежде она не вникала в дела мужа, что-то на слух переняла, но важное упустила. Никто не был готов к его скоропостижному уходу: отец – не в годах, подтянут, строен, красив и вот стал задыхаться. До последнего дня возился с землею, саженцами, спускался в винные погреба, еле-еле выбираясь из мрака подвалов наверх. Дышал часто-часто едва отойдя на сто метров от дома, ища опору то в каменной стене, то в дереве. Валечка и мать не придавали большого значения той одышке, да и чередовавшиеся врачи из местных и отдыхающих не били тревоги – мол, виною жара, пройдет. Однажды лишь, может, месяца за два до отцовой кончины, Валентин осознал, как папа плох. Валя тогда познакомился у «гигантских шагов» с милой барышней из арендованной по соседству дачи, и вся благость беглого их знакомства рассыпалась вдребезги, как стеклянная рюмочка под яйцо тем утром. Мать из глубины сада совершенно безмятежным голосом зазывала: артишочек мой, где же ты, догоняй. Зрели абрикосы и инжир. Тонко пах анис и смородина. А отец, бледный, иконописный, не двигался, вжимаясь лбом в теплый пористый туфф стены. Он не плакал, заплакал Валечка, не показавшись из своего укрытия. Спутница, увидев странного человека, ощупывающего стены ладонями, и услыхав сдавленные рыдания юноши, тотчас исчезла. И имени не запомнил.
Так бывает, сильный и крепкий, непоколебимый в той силе и крепости, на твоих глазах превращается в хилого и хворого, в малого, почти ребенка, а ты сперва не видишь, а увидев, помочь не в силах, упустил и опоздал. Перед отцовой смертью состоялось свидание в больничной палате. Валентин с матерью приезжали навестить больного в Ялтинском лазарете. В отдельной комнате, солнечно-белой, сверкающей счастьем невыносимо-яркого летнего дня отец бодрился, утешал их, корил за «потерянные» лица. Он сидел на больничной койке – а больничные койки во всем мире одинаково сиротские смертные челны – сидел, упираясь руками в металлический край, болтал худыми ногами, мальчишка-старичок. А когда они уходили по прямой дорожке посадок, оглядываясь на окно третьего этажа, где стоял отец, то никому из них, уходящих, не пришло в голову – в последний раз, в последний раз. Только вдуматься – в последний. Они бы, наверное, не ушли, коли бы догадались. Отец тогда приподнимался над землею, выше и выше третьего этажа, расставаясь, теряя земное притяжение. А они не поняли. Их после того визита в лечебницу и разговора с доктором – ялтинским светилом – настигло успокоение: ну, теперь-то помогут. Все не могли уйти… Но ушли же.
Слоеное море смеялось даже вслед похоронной процессии, вслед черному крепу подолов и платков. И казалось, над кладбищенским черным габбро тоже смеялось солнце. На праздниках и именинах часто не договаривают, стесняясь выказать всю любовь к человеку. И только на похоронах воздают сполна, ощутив размеры той пустоты, что занимал ушедший в их сердце.
Около трех лет прошло, а вспоминать страшно. И материно решение ехать сыну в Москву к ее сводному брату пересилило Валечкино желание остаться и быть рядом. Мать не хотела запустения дела Оленевых-Петровых. Она задумала выстроить на побережье несколько дач и сдавать их в аренду, как делают соседи, не погружаясь в ворох сложных хлопот с винодельней, виноградными плато и курсами подготовки виноградарей. Руководить строительными работами по задумке матери должен сын. И Валечка по достижению двадцати лет был выписан в Москву к дяде для поступления в Школу десятников.
Евгения состояла с тетей в постоянной переписке и ловко обходила тему переезда и тайны нового дома. Мать Вали не знала про лазарет для алкоголически запущенных. Жизнь ее единственного сына среди делириков всеми скрывалась. Валентину здесь, на Преображенском, даже нравилось: свой дом, свой сад, монастырская стена с лежащими в воротах львами. Правда, сад занесен тонким слоем первых снегов; у каждой снежинки в мире свое дело. Но воля, воздух окраины, перспектива взгляду до рощи за ручьем Хапиловки, близкие монастырские звоны радовали и не тяготили так, как жизнь в центре с раздражающей толчеей, теснотой, нервной конкой, уступавшей трамваям.
В больничном особняке уживаются два мира. Здесь устроен порядок сопроникновения лазарета и домашней обстановки. Дядя поглощен подопечными, кажется, как предметом изучения для научной работы. Сестра несколько смущена атмосферой, побаивается отцовых полубеспокойных пациентов. Но в то же время Валентин замечал, как Женечка – душа его детства – умеет помогать отцу в миссии облегчения страданий боровшимся с недугом. Опасается и жалеет. А к иным они с Женей испытывают брезгливый интерес, как например, к Липкому. Не верилось, будто тот съел живую канарейку. Ну, допустим, кенаря. Так все одно же съел? Одни лапки остались. Истории попадания в дом умалишенных, основания, доводившие нормальных людей до хроников, горьких пьяниц, волновали и притягивали невозможностью осознать причину добровольного самоуничтожения.
А чем утвердиться-то им? Удивлялся он на таких смельчаков. Ничего не боятся ведь. Ничего. Нужна большая смелость, чтобы вот так на себя, на родных, а, значит, на мир Божий махнуть рукою, отменить замысел о себе. Неповиновение идее. Но пустое и бессмысленное. Смелость быть незащищенными. Или вовсе не смелость, а дурость? Или их добровольное опрощение – сам замысел и есть? Нет-нет, невозможно. Писание к другому призывает. К любви. К милосердию. К гуманности. Не ко греху. И вот они загнивают, язык у них распух, есть не могут. От еды отказываются, мало-мало потребляют, перегорая нутром. Жалуются на сухость во рту. Языки у них к нёбу прилипают. Дядя ставит диагнозом ксеростомию[16], напирает на гигиену рта. Удивительно, что столь взрослых и повидавших жизнь людей приходится заново, как гимназистов первой ступени, учить чистить зубы. Тюри ухмыляется, ксеростомию отвергает, ставит им диагнозом – ломку и горячку, абстиненцию. И полагает, что через сухость рта, отсутствие слюны можно выявить ложь, узнать степень виновности человека, как делалось то в Средние века: пересыхают у них губы, стало быть, волнуются, а волнуются, стало быть, изворачиваются, а изворачиваются, стало быть, лгут. Дядя вступает в жестокий спор со старшим ординатором, твердит, что не допустит инквизицию; впрочем, все споры кончаются миром – одно дело делают, хоть и с разными подходами.
Делирики не разумеют, что по их поводу идут дебаты. Одни из них пребывают в спячке, другие – в неимоверном возбуждении. Ищут способа потушить «пожар». Рыщут, мечутся, а пусто внутри. Что же зашито в теле человеческом помимо селезенки и аппендикса, помимо подлости и скотства, что? Тюри по утрам проводит с пациентами гимнастические пятиминутки. Дядя дает порошки, микстуры, ведет долгие разговоры о режиме и гигиене. А душа? Кто души им вылечит? Ведь не верят. Ни во что не верят. Люди есть чепуховина. И все ж таки жаль их.
Женя спрашивает у Поэта:
– Нет ли у вас новых стихов?
– Новых не делаем, делаем старые.
Поэт пугает Женечку, встает напротив, близко-близко, спрашивает на «голубом глазу»:
– А вам, Евгения Арсеньевна, не страшно сойти с ума?
Пациент Календарев всех с праздниками поздравляет. У него каждый день повод выпить. Нынче намечает справлять «День избавления Державы Российской от нашествия галлов и с ними двунадесяти языков», это он про наполеоновское войско. Вот теперь, утверждает, последний мирный год настает – 1913-й; надо отметить. Да кто же пьянице поверит? Откуда войны ждать? Россия на таких крепких рельсах стоит: корабли со стапелей спускает, загоняет в небо аэропланы, дирижабли и стратостаты, строит проекты по прокладке подземных скоростных дорог. Ничто не указывает на близкий крах. Или хочется так думать, что не указывает. Сплетни о царе с царицей и правящей семье из газет и даже от того же Тюри навязчиво настигают повсюду. «Все врут. Все на фу-фу», как говорит Тюри. А сам ту грязную «стряпню» тащит в дом и вечерами в столовой пропагандирует, собирая возле себя неизменный кружок слушателей: коменданта, кастеляншу, старшую медсестру, санитарок, а то и кого-то из пациентов. Послушать «былички» Тюри, так всюду гниль, разврат, амикошонство, растление.
Из историй старшего ординатора выходит, будто всюду в жизни города, на каждой чиновничьей ступеньке, во всяком бюрократическом кабинете с приемной понатыканы мздоимцы и каннибалы, готовые людишек пачками жрать, искусственно сотворяя смуты и войны в одну лишь собственную угоду – торговля оружием, опиумом, медикаментами, военным сукном: незыблемые законы купи-продай. И если на самом деле так, то дядины больные, патологические делирики, по сравнению с «вершителями судеб» есть человечнейше гуманные существа. Они свою жизнь заедают, да родным знатно отравляют существование. А те-то, те… Те поедают по одиночке одного за другим опасных, перешедших им дорогу, те травят скопом «черемуховым газом», те отравляют враньем, душной атмосферой праздных гостиных, где за светским разговором и бокалом коньяку выносят приговоры целым поколениям. Таковы убеждения Тюри. Нельзя поверить. А если пытаться смотреть на мир чистыми глазами, так и мир станет чист.
Дядя после празднования Рождества и Нового года ждет поступления новых больных вдобавок к первым семи. Женечка готовится к рождественскому балу у Телешёвых и вдохновенно шьет модный наряд с «хромающей юбкой». Повсюду с двадцатых чисел декабря начнутся рождественские празднования, вот и Школа десятников распускает учеников на каникулы. Удов, Тулубьев, Петров не разъезжаются, по-прежнему вместе.
Вале кажется, редко-редко, на раз-два, бывают, такие люди, каким рядом других людей не нужно. Не в смысле обиходном, а в сердечном. Они самодостаточны до одиночества, самоизбыточны до полноты. Вот такой Родион Тулубьев. Человек-одиночка, но не бирюк. Совсем другой Филипп – жаркий, крылатый, не выносивший одиночества. Филиппу всегда требуется отражение, и кто-то должен каждую минуту быть его зеркалом. Два взрослых человека, две души в том возрасте зрелости, когда, кажется, новых верных дружб не заводится. И вот тебе факт – их десятницкая крепкая дружба.
Приближаются праздники. Почему же так тоскливо и подспудно тревожно? Газетной ли требухой вызвана мрачность, зыбкой ли, пограничной атмосферой в больничном доме? И никого из рядом радующихся, предвкушающих празднество, не хочется омрачать призрачными страхами. «Всякого люби и каждого берегись», посмеиваясь, утверждают дядины хитрецы Хлудовы. Так и есть, так и есть. Так было, так есть и так будет. Все внутри человека. Все Царство Божие. Вся преисподняя.
Однако вот и орнамент расцвел в четырех углах. Расписание приведено в долженствующий вид. Остается прикнопить к притолоке в столовой на общее обозрение.
Понедельник – «О пользе трезвости», Тюри
Вторник – «О двенадцати апостолах», Валентин Петров
Среда – «О редких марках и филателической удаче», доктор Арсений Акимович
Четверг – «Архитектура ар-нуво», Тулубьев
Пятница – «О пользе трезвости», Тюри
Суббота – «О русской вышивке набором, списом, стланью», Евгения Арсеньевна
Воскресение – проповедь священника о близком конце света
Вот вам и вся жизнь: конец света и приближение праздника.
1905. Блуждающие
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
Князь с княгиней вскорости собираются в путешествие. Отсюда, с Мойки, едут в Захарьевское – в гвардейский полк в подчинении князя, в Красное село, затем в Архангельское, в саму Москву, а после – Крым, в Коккозы. Объезжают имения. Мальчики нагонят их позже, каждый в свое время в своем месте.
Ваш же покорный слуга дальше станции Мартышкино за весь почтенный возраст никуда не выбирался. Но и Дормидонт может назвать себя завзятым путешественником.

