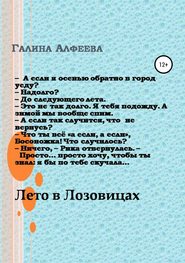По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Блаженная барыня
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Приезжал сегодня Беликов, нежданно свалился, а точнее, завалился к нам с охоты. Пришлось обедать с ним. Не уверен, что он одною своею забавою здесь, а не все обчество заслало его выведать, какова наша жизнь. Люди ищут себе развлечения во всяком событии и паче всякого – на горе других, и слетаются к нему, как мухи к варению. Сие особливо видно в деревне между соседей.
Беликов видел Ульяну, как она учила во дворе Павлушу писать литеры. Прежде, чем я опередил его, он подошел и заговорил с нею. Она что-то отвечала ему.
Все время, пока он сидел у меня, я мучился мыслию, что он подумает о ней и обо мне и что разнесет по соседям. Как вдруг, собираясь восвояси, Беликов сказал: «Сказать правду, брат, наши почитают тебя мизантропом и совсем потерянным после кончины супруги. А ты держишься молодцом, хозяйствуешь, англичанку, вон, сыну выписал. Хорошо, хорошо, и супруга твоя бедная, наверное, теперича была бы рада за тебя».
Я тотчас, как он уехал, сам пошел к Ульяне, узнать, как удалось той сказаться англичанкою, и Беликов в оное поверил.
Ульяна меня к себе не пустила. «Сударь, я не ждала вас, у меня творческия бардак», – сказала она, выходя ко мне и сразу притворивши за собою двери, и я понял так, что у нея не совсем прибрано.
Я стал расспрашивать ея, о чем они говорили с моим соседом. Ульяна стала смеяться и сказала, между прочим, весьма похоже, по-аглицки: «My name is Julia Siskinson. I am a governess of the master's son». «Ты знаешь аглицкий? Откуда?!» – поразился я. «Просто знаю. Наверное, выучила в детстве», – ответствовала мне она и перестала смеяться. – «А французский? Немецкий?» – «Нет, не помню. Сударь, может, мне, в самом деле, стать у вас гувернанткою? Мне бы не помешало жалование и хотя бы два платья для перемены и обувь на зиму».
Она говорила любезно и вполне разумно, я согласился. Зимой никого я не найду для Павлуши, а она как будто любит мальчика и уже не столько кажется странною, а более чудачкой, каковы аглицкие гувернантки вообще. И соседи, ежели появятся тут, не смогут сыскать себе новой сплетни.
Но дело все более запутывается. В самом ли деле она англичанка, изрядно жившая в России? Отсюда могут происходить ея чудачества и странности. Но говорит она по-русски чисто, когда англичанка неизбежно бы выказала свои ошибки и иную манеру произносить русские слова.
***
На Покров, как обычно, был снег, которыя тут же и потаял. Живем мы тихо. Капка благодаря Ульяне выучилась грамоте. Павлуша подрос и перестал дичиться меня. Он также уже знает буквы, причем не обошлось без конфуза. Ульяна не знает иных правил орфографии, не пишет фит, ятей, еров или подменяет их другими, по слуху. Когда я заметил это, пришлось мне самому учить сначала их с Павлушей, а после, верно, Ульяна выучила Капку.
Степан просится у меня погостить к родне в Анисимовку, я велел ему не болтать лишнего в гостях.
Красный горел долго. Всё это время Ульяна старалась не сожалеть об ушедшем автобусе, не бояться утреннего разноса на планёрке – она разглядывала пешеходов, собиравшихся на другой стороне улицы.
Вот женщина в синем пиджаке, толстая, большеглазая, с двойным подбородком: верхним – напористым и дерзким, нижним – маленьким и мягким. Губы у неё накрашены яркой помадой, такой малиновой, что аж с синью.
Вот девушка в модном белом плащике, – надо тоже купить себе что-то похожее на этот сезон, – и бабушка с маленьким внуком, деловито ковыряющим в носу.
Ещё женщина – в брючном костюме. Высокая, угловатая – ходячий фанерный трафарет.
Мужчина с ноутбуком – позади женщин бросил на землю окурок.
Два пенсионера: один в старом сером пиджаке, другой в не менее старом болотного цвета плаще, – оба с дачными вёдрами, покрытыми тонким слоем земляной загородной пыли, тёмной, с бурым оттенком.
Студентка в наушниках и с рюкзачком. Четверо школьников разного возраста.
Молодой человек с черной пластиковой папкой – смешной какой-то, с маленьким кадыком… Но симпатичный…
И вдруг там, на той стороне улицы пошли вперёд, и она тоже шагнула вперёд, навстречу…
***
Завтра наша Ульяна выходит в свет, сиречь отправляется в городские лавки: с Павлушею и Капкою, на Пегашке, коего Никита недавно перековал. Поелику вояж продлится весь день, у меня будет достаточно времени для собственных нужд, а резон моего домашнего сидения имеется сурьезный: приезд Петра Прокопьича, моего шурина. Через переписку он уведомил меня, что проездом навестит нас нонче. Петрушу оставлять здесь ночевать не хочу, не хочу и показывать ему Ульяну, Бог знает, что из того может выйти. Оттого и отправляю их за покупками в город.
Однако я беспокоюсь, разумно ли потратит Ульяна деньги, ибо, хотя и рассуждает она часто весьма здраво, в хозяйственных делах порою совершенно блаженная, особливо в вопросах стоимости иных вещей.
Как-то зашел у нас с нею разговор о свечах, о том, сколько их тратится в доме в месяц, в год, о воске и о цене на оный. Ульяна вела себя так, ровно и понятия о том не имела. Рассказала, что видела сон о грядущих временах, в коем домы освещались от молний, искусственно создаваемых машинами, и от оного же работали иные механизмы. Должно быть, память о прочитанных аглицких и французских книгах по механике так пробуждается в ней. Забавно, что она находила интересным читать таковыя книги.
***
Мне писать о вчерашнем дне горестно и стыдно. Но, приняв на себя сию епитимью – написать правдиво, без прикрас и обеления себя – положить начало покаянию. Ибо я знаю, что должен каяться, должен исповедоваться, но прежде исповеди нужно привести ум в порядок и совесть к ответу.
Итак, я отправил Ульяну в город и встретил Петрушу. Встретил его вежливо, но не радушно, ибо давняя неприязнь, почавшаяся с кончины Маши, как сам-третий всюду сопровождала нас.
Петруша не приезжал бы ко мне, не будь у него нужды в деньгах, и сию нужду он прикрывает заботою о племяннике и пустыми просьбами отдать ему мальчика, хотя б на время. Куда? Петруша кутит и поутру не помнит, кому и сколько проиграл. Он и не справится, кормили ли ребёнка вечор. Однако шурин мой человек незлой, даже приятный в некоторой степени и до крайности изобретательный в выпрашивании денег. Павлуше он привёз игрушку: коника деревяннаго, с седельцем, со сбруею. И всё в разговоре поминал покойную сестру. Но даже в память о Маше я не мог дать ему (ради его же блага!) столько, сколько он просил у меня. Мы сошлись на меньшей сумме. По физиогномии же петрушиной я понял, что он недоволен, но сию обиду будет держать в себе. И тогда я не предал сему значения, о чем нынче сожалею. Виною ли моя жадность? Дай я ему столько, сколько он просил у меня, уехал бы он раньше?
Мы сели за трапезу. Петруша не признаёт трезвых столов, потому мы пили довольно много, но я не чувствовал сильнаго опьянения и радовался, что смогу отправить Петрушу домой будучи трезвее его. Я, между беседой, дал слугам знать, чтоб сказали его человеку готовиться везти барина. И тут Петруша меня просит сыграть с ним партию. Одну партию, в коей он ставит все данные мною деньги, а с меня не требует ничего. Что-де совестно ему клянчить, а ежели он выиграет, то сие будет честно. Ежели проиграет, то так тому и быть, уедет без гроша. И я тогда согласился уважить его просьбу. Я полагал, что сие к добру: быть может, Петруша и проиграет мне.
Стали играть. И вышло по-моему, Петруша проиграл. Однако тотчас стал просить меня поддаться, дать ему другую попытку и прочая, прочая. Даже будучи сильно пьяным, шурин мой не теряет дара красноречия. Я же готов был отдать ему эти деньги, но после проигрыша что-то вдруг нашло на меня, мне непременно хотелось проучить Петрушу, и я стоял на своём, не отдавая денег.
«А ведь я знаю, что ты уже сестру-покойницу и помнить забыл. Живёшь тут с какою-то не то побирушкою, не то мошенницею, на неё денег-то не жалеешь, содержишь! И жалование даже платишь – небось, исправно платишь!» – огорошил он меня, зло выпалив сие прямо в лицо.
Что он знает об Ульяне, притом знает худые толки, мерзость, выдуманную, верно, кем-то из наших крестьян или соседей, меня поразило. Я не нашёл, что сказать, и только смотрел на него, думая, что мне теперича делать: отрицать всё или же только сию грязную сплетню.
Отчего мы попадаем под власть родных, робеем от человеческия подлости, явившейся, словно волк в овечьей шкуре, в наш дом, в то время как за подобный же проступок с чужака требуем объяснений и сатисфакции? Дай я Петруше пощёчину – разрешилось бы всё и разом. Но я не дал. Я подставил другую щёку. Так я полагал, сказавши ему спокойно и холодно, что сие есть ложь, и ложь меня, хозяина дома и его сродника, оскорбляет. И Петруше следует взять свои слова обратно. «Возьму, коли ты тотчас сядешь играть, да вот, пожалуй, и поставишь … да хоть тайну сию. Коли выиграешь – ни разу про твою блажь не помяну, а коли проиграешь – не взыщи, брат, то моя воля, всякому спросившему скажу как есть».
Я понял, что разболтает он и так, выиграю ли я или проиграю, но, унижая меня, он всякий раз будет требовать всё более и более. Ежели я выиграю, он, может, денег не возьмёт. А ежели проиграю, не будет ни добраго имени, ни денег. «Ты пьян, Петя, бери деньги и езжай с Богом. Завтра проспишься – своих же слов стыдно станет», – стал я его увещевать: – «Кого могу я принять и полюбить после Маши? Особа, про которую тебе наплели глупостей, бедная гувернантка, оказавшаяся в трудном положении. Так и есть, я плачу ей за занятия с Павлушею и иных отношений нет меж нами. Повидал бы ты ея, сам бы убедился, что опасаться тут нечего: особа сия непривлекательна, происхождения низкого, и годится только ходить за малыми детьми».
Кое-как унял, вывел на двор. Уехал он. Я только тут почуял, как нехорошо мне, как опьянел я. Еле дошёл в дом, к себе в спальню. Помнится, дорогой споткнулся о какой-то короб, но не стал смотреть, что это. Дошёл к себе, и того уже не помнил, токмо упал и заснул.
Наутро, открывши глаза, я похолодел от ужаса: будучи вчера пьяным, я не спросил, вернулись ли Ульяна с Павлушею. Прилежно здесь пером браня своего шурина, сам я не то что не справился, ел ли мой сын, но даже и где он! К тому ж голова моя болела изрядно, и общий вид был скверный. Скверна была и в душе моей, то я ощущал весьма явственно. Неловкой рукой перекрестяся, я дал зарок больше не допускать до такого. Я кликнул Степана, страшася спрашивать, вернулись ли мои путешественники.
Степан был со мною снисходителен, какими всегда бывают мужики, повидав барина в жалком состоянии, и сие ещё более меня уязвило. На вопрос мой он отвечал, что всё благополучно, Капка с Павлушею и «блаженная барыня» воротились и мирно почивали. Помолчав, подумав, Степан прибавил, явно в укор мне: «Воротилися оне, ещё барин Петр Прокопьич тут были, с вами в карты играть изволили. Блаженная барыня-то к дверям гостиной подошла, видать, покупками похвалиться хотела, а вас услыхала, спорящих, постояла-постояла, да и бросила вещи-то, и ушла к себе. Осерчала, должно, барин».
«Сколько раз тебе говорил не называть ея блаженною!» – строго оборвал его рассуждения я. Слушать его мне было нестерпимо.
Степан рассуждать перестал и, закончив, ушёл. А я не знал, как быть. Выходит, Ульяна слышала, как шурин грозился предать огласке эту пошлую выдумку о ея сожительстве со мною, и слышала, как я … О Боже, что она должна чувствовать!
Я истратил более часа на написание короткой записки, поскольку, как человек честный, обязан был объясниться и признать грубость своего тона и тех не предназначенных для ушей женщины речей, невольно слышанных Ульяною вчера. Как бы там ни было, она увидела моё падение, а через неё и сам я вижу в себе лицемера…
Маша, видела ли его и ты? Не для того ли ты прислала ко мне сию женщину, – несхожую с тобою характером, не таящую за воспитанием своих чувств и мыслей – чтобы сорвать с меня покров благонамеренной скорби и дать мне жестокий урок?
Я отнёс своё письмо ей. Разумеется, она не пожелала отворять дверей, и я просунул записку под ними. Сейчас мне немного легче, но что сделает Ульяна? Она понимает, что зависима от меня, однако существо она непредсказуемое и может совершить поступок, коего я не ожидаю.
– Ульяна Сергеевна? Вы меня слышите?
Ульяна Сергеевна медленно открыла глаза и тотчас почувствовала, что лежит спиной на человеческой руке. Ноги свои она ощутила без опоры, кое-как касающимися земли. Прямо перед ней было лицо человека, который подхватил её – почти у земли, перед фарами автомобиля. Лицо это было знакомым. Парень с чёрной папкой, тот самый, симпатичный!..
– Вы не волнуйтесь, я вас держу, – улыбнулся парень.
Он, кажется, не дышал. Говорил прямо перед её лицом, но ни запаха его, ни ветерка дыхания Ульяна не чувствовала. У него были синие глаза, и, кроме того, непривычного оттенка: ярко-синие. «Это линзы?» – подумала Ульяна.
– Вы не поможете мне стать нормально? – она беспомощно хваталась руками за воздух в попытке обрести свободу и независимость в пространстве.
– А вы не спешите. Обопритесь на меня, ногу выпрямите, она у вас подогнулась…
Ульяна послушалась его и, наконец, стала. Тут же отстранилась от своего спасителя и увидела то, на что глаза прежде среагировали, как на тени вокруг. Тени были людьми и машинами, замершими посреди улицы, словно вдруг увидавшими Медузу Горгону. Не довершив шага, не договорив по мобильному, закрыв глаза во время моргания… Человек, сидевший за рулём автомобиля, под колёса которого она едва не попала, тоже сидел с закрытыми глазами…
– Что это? – спросила она.