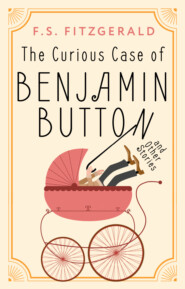По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
По эту сторону рая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но в ближайшие четыре года способности Эмори были направлены главным образом на завоевание популярности, а также на сложности университетского общественного строя и американского общества в целом, в том виде, как они выявлялись на чаепитиях в отеле «Билтмор» и в гольф-клубах Хот-Спрингса.
… Да, удивительная неделя, когда весь духовный мир Эмори оказался перетряхнут и подтвердились сотни его теорий, а ощущение радости жизни претворилось в тысячу честолюбивых замыслов. Причем разговоры велись отнюдь не ученые, боже сохрани! Эмори лишь очень смутно представлял себе, что такое Бернард Шоу, но монсеньор умел извлечь столько же из «Любимого бродяги» и «Сэра Нигеля», зорко следя за тем, чтобы Эмори ни разу не почувствовал себя профаном.
Однако трубы уже трубили сигнал к первому бою между Эмори и его поколением.
– Тебе, конечно, не жаль уезжать от меня, – сказал монсеньор. – Для таких, как мы с тобой, родной дом там, где нас нет.
– Мне ужасно жаль…
– Неправда. Ни тебе, ни мне никто по-настоящему не нужен.
– Ну, не знаю…
– До свидания.
Эгоисту плохо
Два года неудач и триумфов, проведенные Эмори в Сент-Реджисе, сыграли в его жизни столь же незначительную роль, как все американские «подготовительные» школы, придавленные пятой университетов, – в американской жизни в целом. У нас нет Итона, где формируется психология правящего класса, вместо этого у нас имеются чистенькие, пресные и безобидные подготовительные школы.
Эмори сразу взял неверный тон, его сочли высокомерным и наглым и дружно невзлюбили. Он усиленно играл в футбол, проявляя то залихватскую удаль, то максимум осторожности, совместимой с достойным поведением спортсмена на поле. Однажды, поддавшись безотчетному страху, он отказался драться с мальчиком одного с ним роста и веса, а через неделю, войдя в раж, сам полез в драку с другим мальчиком, гораздо более рослым и сильным, и вышел из схватки жестоко избитый, но вполне довольный собой.
В любом начальнике он видел врага, и это, в сочетании с ленивым равнодушием к занятиям, бесило преподавателей. Захандрив, он вообразил себя отверженным, стал искать мрачного уединения и читать по ночам. Страшась одиночества, он завел себе двух-трех приятелей, но, поскольку они не принадлежали к школьной элите, использовал их просто как зеркало, как публику, перед которой позировал, – без этого он не мог жить. Ему было до ужаса тоскливо, до невероятия тяжело.
Кое-какие мелочи служили ему утешением. Когда его заливали волны отчаяния, последним на поверхности оставалось его тщеславие, так что он все же не остался равнодушен, когда Вуки-Вуки, старая глухая экономка, сказала ему, что такого красавца, как он, отродясь не видала. Ему было приятно, что он – самый быстрый и самый младший в футбольной команде; приятно было после оживленного диспута услышать от доктора Дугала, что при желании он мог бы выйти на первое место в школе. Впрочем, доктор Дугал ошибался. Выйти на первое место в школе Эмори не мог – не так он был создан.
Несчастный, загнанный, не любимый ни товарищами, ни учителями – таким был Эмори в первом триместре. Однако, приехав на рождественские каникулы в Миннеаполис, он ни словом никому не пожаловался, напротив.
– Сначала было непривычно, – небрежно рассказывал он Фрогги Паркеру, – а потом все наладилось. Я самый быстрый в нашей команде. Надо бы и тебе поехать в школу, Фрогги. Там просто здорово.
Эпизод с доброжелательным преподавателем
В последний вечер первого триместра старший преподаватель мистер Марготсон вызвал Эмори на девять часов к себе в кабинет. Эмори сразу заподозрил, что предстоит выслушивать советы, но решил держаться вежливо, потому что этот мистер Марготсон всегда относился к нему терпимо.
Учитель встретил его с серьезным лицом и знаком пригласил сесть. Потом откашлялся и придал себе нарочито доброе выражение, как человек, понимающий, что ступает на скользкую почву.
– Эмори, – начал он, – я хочу поговорить с вами по личному делу.
– Да, сэр?
– Я приглядывался к вам весь этот год, и я… я вами доволен. Мне кажется, у вас есть задатки очень… очень хорошего человека.
– Да, сэр? – выдавил из себя Эмори. Неприятно, когда с тобой говорят, как с отпетым неудачником.
– Однако я заметил, – продолжал учитель, набравшись духу, – что товарищи вас недолюбливают.
– Да, сэр. – Эмори облизал губы.
– Так вот, я подумал, может быть, вам не совсем ясно, что именно им в вас… гм… не нравится. Сейчас я вам это скажу, ибо я считаю, что, если ученик знает свои недостатки, ему легче исправиться… понять, чего от него ждут, и поступать соответственно. – Он опять откашлялся, негромко и деликатно, и продолжал: – Видимо, они считают вас… гм… немного нахальным.
Эмори не выдержал. Он встал, и, когда заговорил, голос его срывался.
– Знаю, неужели вы думаете, что я не знаю? – Он почти кричал. – Знаю я, что они думают, можете мне не говорить. – Он осекся. – Я… я… мне надо идти… простите, если вышло грубо.
Он выбежал из комнаты. Вырвавшись на свежий воздух, по дороге в свое общежитие он бурно радовался, что не пожелал принять чью-то помощь.
– Старый дурак! – восклицал он злобно. – Как будто я сам не знаю!
Однако он решил, что теперь у него есть уважительная причина, чтобы больше сегодня не заниматься, и, уютно устроившись у себя в спальне, сунул в рот вафлю и стал дочитывать «Белый отряд».
Эпизод с ч?дной девушкой
В феврале сверкнула яркая звезда. Нью-Йорк в день рождения Вашингтона внезапно открылся ему во всем блеске. В то первое утро город промелькнул перед ним белой полоской на фоне густо-синего неба, оставив впечатление величия и могущества под стать сказочным дворцам из «Тысячи и одной ночи»; теперь же Эмори увидел его при свете электричества, и романтикой дохнуло от гигантских световых реклам на Бродвее и от женских глаз в ресторане отеля «Астор», где он обедал с Паскертом из Сент-Реджиса. И позже, когда они шли по проходу в партере, а навстречу им неслась будоражащая нервы какофония настраиваемых скрипок и тяжелый, чувственный аромат духов и пудры, он весь растворялся в эпикурейском наслаждении. Все приводило его в восторг. Давали «Маленького миллионера» с Джорджем М. Коэном, и была там одна миниатюрная брюнетка, которая так танцевала, что Эмори чуть не плакал от восхищения.
Ч?дная девушка,
Как ты чудесна, —
пел тенор, и Эмори соглашался с ним молча, но от всей души.
Чудные речи твои
Мне сердце пронзили…
Смычки пропели последние ноты громко и трепетно, девушка смятой бабочкой упала на подмостки, зал разразился аплодисментами. Ах, влюбиться бы вот так, под звуки этой томной, волшебной мелодии! Последнее действие происходило в кафе на крыше, и виолончели вздохами славили луну, а на авансцене, легкие, как пена на шампанском, порхали комические повороты сюжета. Эмори изнывал от желания стать завсегдатаем таких вот кафе на крышах, встретить такую девушку – нет, лучше эту самую девушку, и чтобы в волосах ее струилось золотое сияние луны, а из-за его плеча официант-иностранец подливал ему в бокал искрометного вина. Когда занавес опустился в последний раз, он вздохнул так глубоко и горестно, что зрители, сидевшие впереди, удивленно оглянулись, а потом он расслышал слова:
– До чего же красив мальчишка!
Это отвлекло его мысли от пьесы, и он стал думать, действительно ли его внешность пришлась по вкусу населению Нью-Йорка.
К себе в гостиницу они шли пешком и долго молчали. Первым заговорил Паскерт. Его неокрепший пятнадцатилетний голос печально вторгся в размышления Эмори.
– Хоть сейчас женился бы на этой девушке.
О какой девушке шла речь, было ясно.
– Я был бы счастлив привести ее к нам домой и познакомить с моими родителями, – продолжал Паскерт.
Эмори проникся к нему уважением и пожалел, что не сам произнес эти слова. Они прозвучали так внушительно.
– Я вот думаю про актрис. Интересно, они все безнравственные?
– Ничего подобного, – уверенно ответил многоопытный юноша. – Эта девушка, например, безупречна, тут сразу видно.
Они шли, смешавшись с бродвейской толпой, паря на крыльях музыки, вырывавшейся из дверей кафе. Всё новые лица вспыхивали и гасли, как сотни огней, бледные лица или нарумяненные, усталые, но все равно возбужденные. Эмори вглядывался в них с жадностью. Он строил планы на будущее. Он поселится в Нью-Йорке, станет знакомой фигурой во всех ресторанах и кафе, будет носить фрак с раннего вечера до раннего утра, а днем, когда делать нечего, – спать.
– Да-да, я хоть сейчас женился бы на этой девушке!
Эпизод в героических тонах
Октябрь второго, и последнего, года, проведенного в Сент-Реджисе, крепко запомнился Эмори. Матч с Гротоном начался в три часа в прохладный погожий день, а закончился, когда уже сгустились холодные осенние сумерки; и Эмори, игравший полузащитником, в отчаянии взывая о поддержке, совершая немыслимые захваты, выкрикивая команды голосом, осевшим до хриплого, исступленного шепота, все же нашел время с гордостью ощутить и белую, в пятнах крови, повязку у себя на голове, и героику сцепившихся в беспорядочной схватке потных, наседающих тел, ноющих рук и ног. В эти минуты храбрость, как вино, вливалась в него из октябрьского полумрака, и вот он, извечный герой, родной брат морскому бродяге с ладьи викинга, родной брат Роланду и Горацию, сэру Нигелю и Теду Кою, вырывается вперед и, собственной волей брошенный в прорыв, сдерживает натиск живой стены, слыша издалека одобрительный рев трибуны… и наконец, весь в ушибах и ссадинах, вымотанный, но неуловимый, мчится с мячом по широкой дуге, виляет вправо, влево, меняет темп, работает кулаком и, чувствуя, что сразу двое хватают его за ноги, валится наземь за воротами Гротона, одержав для своей команды желанную победу.
… Да, удивительная неделя, когда весь духовный мир Эмори оказался перетряхнут и подтвердились сотни его теорий, а ощущение радости жизни претворилось в тысячу честолюбивых замыслов. Причем разговоры велись отнюдь не ученые, боже сохрани! Эмори лишь очень смутно представлял себе, что такое Бернард Шоу, но монсеньор умел извлечь столько же из «Любимого бродяги» и «Сэра Нигеля», зорко следя за тем, чтобы Эмори ни разу не почувствовал себя профаном.
Однако трубы уже трубили сигнал к первому бою между Эмори и его поколением.
– Тебе, конечно, не жаль уезжать от меня, – сказал монсеньор. – Для таких, как мы с тобой, родной дом там, где нас нет.
– Мне ужасно жаль…
– Неправда. Ни тебе, ни мне никто по-настоящему не нужен.
– Ну, не знаю…
– До свидания.
Эгоисту плохо
Два года неудач и триумфов, проведенные Эмори в Сент-Реджисе, сыграли в его жизни столь же незначительную роль, как все американские «подготовительные» школы, придавленные пятой университетов, – в американской жизни в целом. У нас нет Итона, где формируется психология правящего класса, вместо этого у нас имеются чистенькие, пресные и безобидные подготовительные школы.
Эмори сразу взял неверный тон, его сочли высокомерным и наглым и дружно невзлюбили. Он усиленно играл в футбол, проявляя то залихватскую удаль, то максимум осторожности, совместимой с достойным поведением спортсмена на поле. Однажды, поддавшись безотчетному страху, он отказался драться с мальчиком одного с ним роста и веса, а через неделю, войдя в раж, сам полез в драку с другим мальчиком, гораздо более рослым и сильным, и вышел из схватки жестоко избитый, но вполне довольный собой.
В любом начальнике он видел врага, и это, в сочетании с ленивым равнодушием к занятиям, бесило преподавателей. Захандрив, он вообразил себя отверженным, стал искать мрачного уединения и читать по ночам. Страшась одиночества, он завел себе двух-трех приятелей, но, поскольку они не принадлежали к школьной элите, использовал их просто как зеркало, как публику, перед которой позировал, – без этого он не мог жить. Ему было до ужаса тоскливо, до невероятия тяжело.
Кое-какие мелочи служили ему утешением. Когда его заливали волны отчаяния, последним на поверхности оставалось его тщеславие, так что он все же не остался равнодушен, когда Вуки-Вуки, старая глухая экономка, сказала ему, что такого красавца, как он, отродясь не видала. Ему было приятно, что он – самый быстрый и самый младший в футбольной команде; приятно было после оживленного диспута услышать от доктора Дугала, что при желании он мог бы выйти на первое место в школе. Впрочем, доктор Дугал ошибался. Выйти на первое место в школе Эмори не мог – не так он был создан.
Несчастный, загнанный, не любимый ни товарищами, ни учителями – таким был Эмори в первом триместре. Однако, приехав на рождественские каникулы в Миннеаполис, он ни словом никому не пожаловался, напротив.
– Сначала было непривычно, – небрежно рассказывал он Фрогги Паркеру, – а потом все наладилось. Я самый быстрый в нашей команде. Надо бы и тебе поехать в школу, Фрогги. Там просто здорово.
Эпизод с доброжелательным преподавателем
В последний вечер первого триместра старший преподаватель мистер Марготсон вызвал Эмори на девять часов к себе в кабинет. Эмори сразу заподозрил, что предстоит выслушивать советы, но решил держаться вежливо, потому что этот мистер Марготсон всегда относился к нему терпимо.
Учитель встретил его с серьезным лицом и знаком пригласил сесть. Потом откашлялся и придал себе нарочито доброе выражение, как человек, понимающий, что ступает на скользкую почву.
– Эмори, – начал он, – я хочу поговорить с вами по личному делу.
– Да, сэр?
– Я приглядывался к вам весь этот год, и я… я вами доволен. Мне кажется, у вас есть задатки очень… очень хорошего человека.
– Да, сэр? – выдавил из себя Эмори. Неприятно, когда с тобой говорят, как с отпетым неудачником.
– Однако я заметил, – продолжал учитель, набравшись духу, – что товарищи вас недолюбливают.
– Да, сэр. – Эмори облизал губы.
– Так вот, я подумал, может быть, вам не совсем ясно, что именно им в вас… гм… не нравится. Сейчас я вам это скажу, ибо я считаю, что, если ученик знает свои недостатки, ему легче исправиться… понять, чего от него ждут, и поступать соответственно. – Он опять откашлялся, негромко и деликатно, и продолжал: – Видимо, они считают вас… гм… немного нахальным.
Эмори не выдержал. Он встал, и, когда заговорил, голос его срывался.
– Знаю, неужели вы думаете, что я не знаю? – Он почти кричал. – Знаю я, что они думают, можете мне не говорить. – Он осекся. – Я… я… мне надо идти… простите, если вышло грубо.
Он выбежал из комнаты. Вырвавшись на свежий воздух, по дороге в свое общежитие он бурно радовался, что не пожелал принять чью-то помощь.
– Старый дурак! – восклицал он злобно. – Как будто я сам не знаю!
Однако он решил, что теперь у него есть уважительная причина, чтобы больше сегодня не заниматься, и, уютно устроившись у себя в спальне, сунул в рот вафлю и стал дочитывать «Белый отряд».
Эпизод с ч?дной девушкой
В феврале сверкнула яркая звезда. Нью-Йорк в день рождения Вашингтона внезапно открылся ему во всем блеске. В то первое утро город промелькнул перед ним белой полоской на фоне густо-синего неба, оставив впечатление величия и могущества под стать сказочным дворцам из «Тысячи и одной ночи»; теперь же Эмори увидел его при свете электричества, и романтикой дохнуло от гигантских световых реклам на Бродвее и от женских глаз в ресторане отеля «Астор», где он обедал с Паскертом из Сент-Реджиса. И позже, когда они шли по проходу в партере, а навстречу им неслась будоражащая нервы какофония настраиваемых скрипок и тяжелый, чувственный аромат духов и пудры, он весь растворялся в эпикурейском наслаждении. Все приводило его в восторг. Давали «Маленького миллионера» с Джорджем М. Коэном, и была там одна миниатюрная брюнетка, которая так танцевала, что Эмори чуть не плакал от восхищения.
Ч?дная девушка,
Как ты чудесна, —
пел тенор, и Эмори соглашался с ним молча, но от всей души.
Чудные речи твои
Мне сердце пронзили…
Смычки пропели последние ноты громко и трепетно, девушка смятой бабочкой упала на подмостки, зал разразился аплодисментами. Ах, влюбиться бы вот так, под звуки этой томной, волшебной мелодии! Последнее действие происходило в кафе на крыше, и виолончели вздохами славили луну, а на авансцене, легкие, как пена на шампанском, порхали комические повороты сюжета. Эмори изнывал от желания стать завсегдатаем таких вот кафе на крышах, встретить такую девушку – нет, лучше эту самую девушку, и чтобы в волосах ее струилось золотое сияние луны, а из-за его плеча официант-иностранец подливал ему в бокал искрометного вина. Когда занавес опустился в последний раз, он вздохнул так глубоко и горестно, что зрители, сидевшие впереди, удивленно оглянулись, а потом он расслышал слова:
– До чего же красив мальчишка!
Это отвлекло его мысли от пьесы, и он стал думать, действительно ли его внешность пришлась по вкусу населению Нью-Йорка.
К себе в гостиницу они шли пешком и долго молчали. Первым заговорил Паскерт. Его неокрепший пятнадцатилетний голос печально вторгся в размышления Эмори.
– Хоть сейчас женился бы на этой девушке.
О какой девушке шла речь, было ясно.
– Я был бы счастлив привести ее к нам домой и познакомить с моими родителями, – продолжал Паскерт.
Эмори проникся к нему уважением и пожалел, что не сам произнес эти слова. Они прозвучали так внушительно.
– Я вот думаю про актрис. Интересно, они все безнравственные?
– Ничего подобного, – уверенно ответил многоопытный юноша. – Эта девушка, например, безупречна, тут сразу видно.
Они шли, смешавшись с бродвейской толпой, паря на крыльях музыки, вырывавшейся из дверей кафе. Всё новые лица вспыхивали и гасли, как сотни огней, бледные лица или нарумяненные, усталые, но все равно возбужденные. Эмори вглядывался в них с жадностью. Он строил планы на будущее. Он поселится в Нью-Йорке, станет знакомой фигурой во всех ресторанах и кафе, будет носить фрак с раннего вечера до раннего утра, а днем, когда делать нечего, – спать.
– Да-да, я хоть сейчас женился бы на этой девушке!
Эпизод в героических тонах
Октябрь второго, и последнего, года, проведенного в Сент-Реджисе, крепко запомнился Эмори. Матч с Гротоном начался в три часа в прохладный погожий день, а закончился, когда уже сгустились холодные осенние сумерки; и Эмори, игравший полузащитником, в отчаянии взывая о поддержке, совершая немыслимые захваты, выкрикивая команды голосом, осевшим до хриплого, исступленного шепота, все же нашел время с гордостью ощутить и белую, в пятнах крови, повязку у себя на голове, и героику сцепившихся в беспорядочной схватке потных, наседающих тел, ноющих рук и ног. В эти минуты храбрость, как вино, вливалась в него из октябрьского полумрака, и вот он, извечный герой, родной брат морскому бродяге с ладьи викинга, родной брат Роланду и Горацию, сэру Нигелю и Теду Кою, вырывается вперед и, собственной волей брошенный в прорыв, сдерживает натиск живой стены, слыша издалека одобрительный рев трибуны… и наконец, весь в ушибах и ссадинах, вымотанный, но неуловимый, мчится с мячом по широкой дуге, виляет вправо, влево, меняет темп, работает кулаком и, чувствуя, что сразу двое хватают его за ноги, валится наземь за воротами Гротона, одержав для своей команды желанную победу.