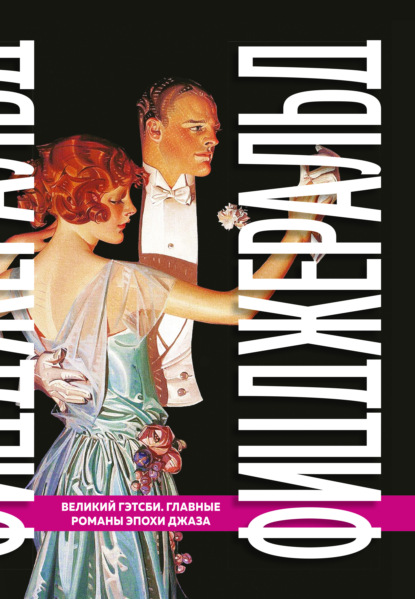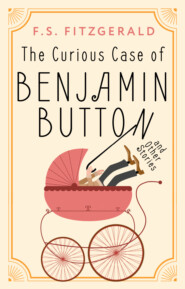По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Великий Гэтсби. Главные романы эпохи джаза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Откладывать 5 долларов [перечеркнуто] 3 доллара в неделю.
Лучше относиться к родителям.
– Я на эту книгу случайно напал, – сказал старик. – Она многое объясняет, верно?
– Многое.
– Джимми просто не мог не добиться успеха. То такое решение примет, то эдакое, и так все время. Вы заметили, что он про развивающую книгу написал? В этом он разбирался. Однажды сказал мне, что я жру как свинья, так я его поколотил.
И книжку закрывать ему тоже не хотелось. Он прочитал все записи вслух, значительно поглядывая на меня. По-моему, он почти ожидал, что я перепишу их для собственного употребления.
Незадолго до трех из Флашинга приехал лютеранский священник, и я начал невольно поглядывать в окно, надеясь увидеть и другие машины. То же и отец Гэтсби. Но время тянулось, пришли и в ожидании выстроились вдоль стены вестибюля слуги, и старик начал беспокойно помаргивать, говорить что-то невнятное и тревожное насчет дождя. Священник несколько раз посмотрел на часы, я отвел его в сторону, попросил подождать еще полчаса. Без толку. Никто не приехал.
Около пяти наша состоявшая из трех машин вереница достигла кладбища и остановилась под густой моросью у ворот – впереди катафалк, до ужаса черный и мокрый, за ним лимузин, в котором сидели мистер Гэтц, священник и я, а за нами немного отставший моторный фургон Гэтсби с четырьмя-пятью слугами и почтальоном Вест-Эгг – все промокшие до нитки. Когда мы проходили в ворота, я услышал, как затормозила еще одна машина, и кто-то зашлепал, нагоняя нас, по раскисшей земле. Я оглянулся. То был мужчина в совиных очках – тот, что три месяца назад дивился в библиотеке Гэтсби на книги.
С той ночи я его ни разу не видел. Не знаю, откуда ему стало известно о похоронах, даже имени его не знаю. Струи дождя стекали по толстым стеклам его очков, и он снял их и протер, чтобы посмотреть, как из вырытой для Гэтсби могилы вытаскивают и скатывают защищавший ее от воды брезент.
Я попытался думать о Гэтсби, однако он ушел уже слишком далеко, и я вспомнил только, без негодования впрочем, что Дэйзи не прислала ни телеграммы, ни цветов. До ушей моих донеслось невнятное бормотание, что-то вроде: «Блаженны мертвые, на коих падает дождь», а затем Совиноглазый произнес молодецким голосом: «Воистину так!»
Мы торопливо пошли под дождем к машинам. В воротах он заговорил со мной:
– Прямо к дому я не поспел.
– И никто не поспел.
– Да что вы, – испугался он. – О Господи, как же так? Они же к нему сотнями приезжали!
Он снял очки, снова протер стекла снаружи и изнутри и сказал:
– Несчастный сукин сын!
Определенная часть самых живых моих воспоминаний связана с предрождественскими возвращениями на Запад из частной школы, а позже – из университета. Те, кому предстояло ехать дальше Чикаго, сходились в шесть часов декабрьского вечера на тусклом, старом вокзале Юнион-Стейшн, чтобы торопливо попрощаться с несколькими чикагскими друзьями, уносимыми потоком каникулярного веселья. Помню шубки девушек, возвращавшихся домой из пансиона мисс Такой или Этакой, их щебет, парок изо ртов, поднятые над головами ладони, которыми мы помахивали, увидев давних знакомых, помню взаимные приглашения: «Ты к Ордуэям заглянешь? А к Херси? А к Шульцам?» – и длинные зеленые билеты, крепко сжимаемые руками в перчатках. И помню, наконец, стоявшие у перрона мрачновато-желтые вагоны железной дороги «Чикаго, Милуоки и Сент-Пол», казавшиеся такими же веселыми, как само Рождество.
Когда паровоз вытягивал нас в зимнюю ночь, и настоящий снег, наш снег, распростирался вокруг, мерцая за окнами, и тусклые огни маленьких висконсинских станций проносились за ними, воздух внезапно становился резким, девственным, крепким. Возвращаясь из вагона-ресторана, мы в каждом холодном тамбуре вдыхали этот воздух полной грудью, без всяких слов сознавая наше единство со страной – всего на один странный час, а когда он закончится, мы снова растворимся в ней без следа.
Таков мой Средний Запад – не хлеба, не прерии, не затерянные в них шведские городки, но подрагивающие возвратные поезда моей юности, и уличные фонари, и санные колокольчики в морозном мраке, и тени венков из ветвей остролиста, бросаемые льющимся из окон светом на снег. Я – неотъемлемая часть всего этого, немного высокопарная оттого, что память моя хранит те долгие зимы, немного самодовольная потому, что вырос я в доме Каррауэев, в городе, чьи здания многие десятилетия носили имена их владельцев, да носят и сейчас. Я понимаю теперь, что рассказал, в конечном счете, историю Запада: Том и Гэтсби, Дэйзи, Джордан и я – все мы родом оттуда и все, быть может, обладаем одним общим изъяном, который мешает нам с головой уйти в жизнь Востока.
Даже в мгновения, когда Восток волновал меня пуще всего, когда я с особой силой ощущал его превосходство над скучающими, раскидистыми, расползшимися городами, что стоят по ту сторону Огайо и зудят от бесконечных пересудов, щадящих только детей да глубоких стариков, – даже тогда я чувствовал в нем нечто извращенное, перекошенное. Особенно в Вест-Эгг, которое и поныне появляется в самых фантастических моих снах. В них оно походит на ночную сцену Эль Греко: сотни домов, одновременно и привычных, и гротесковых, припавших к земле под вздувшимся, низко нависшим небом и тусклой луной. На переднем плане четверо мужчин во фраках идут по тротуару с носилками, на которых лежит пьяная женщина в белом вечернем платье. Свисающая с носилок рука ее болтается, холодно поблескивая драгоценными камнями. Мужчины производят степенный разворот и входят в дом – не в тот, какой нужен. Впрочем, имени женщины ни один из них не знает, да оно им и не интересно.
Таким начал являться мне после смерти Гэтсби Восток – перекошенным до того, что как ни напрягал я глаза, а выправить его не мог. И когда воздух наполнился голубоватым дымком ломких листьев и ветер начал срывать с веревок зябнувшее после стирки белье, я решил вернуться домой.
Однако перед отъездом мне надлежало докончить одно неловкое, неприятное дело. Возможно, правильнее было бы с ним не связываться, но мне хотелось уехать, все приведя в порядок, не оставить на берегу никакого сора, пусть даже я был уверен, что услужливое, равнодушное море быстро смоет его. И я встретился с Джордан Бейкер, и рассказал ей, что думаю о случившемся с нами и о том, что случилось со мной после, и она выслушала меня, неподвижно покоясь в большом кресле.
Джордан была одета для гольфа, и, помню, я подумал, что она походит на хорошую иллюстрацию к какому-то рассказу, – чуть приподнятый, не без франтовства, подбородок, волосы цвета осенней листвы, лицо такого же смуглого тона, как митенка на лежавшей поверх колена руке. Когда я закончил, Джордан, не снизойдя до комментариев, сказала мне, что помолвлена. Я не поверил ей – хоть и знал о существовании нескольких мужчин, за каждого из которых она могла выйти, просто кивнув ему, – однако притворился удивленным. С минуту, не больше, я гадал, не совершаю ли ошибку, но затем быстро обдумал все еще раз и встал, собираясь проститься.
– Так или иначе, но ты бросил меня, – вдруг сказала Джордан. – Тогда, по телефону. Сейчас мне на тебя наплевать, но тогда это было чем-то новеньким для меня и на недолгое время выбило из седла.
Мы пожали друг дружке руки.
– Да, а помнишь наш давний разговор о водителях? – прибавила она.
– Смутно – а что?
– Ты сказал тогда, что плохому водителю ничто не грозит только до встречи с другим таким же. Ну вот я и встретила другого плохого водителя, так? Я о том, что была слишком неосторожна и оттого сильно ошиблась в моих предположениях. Я считала тебя человеком честным, прямым. Думала, что ты втайне гордишься этим.
– Мне тридцать, – ответил я. – Я уж пять лет как вышел из возраста, в котором человек врет себе и зовет это честностью.
Она не ответила. Рассерженный, все еще наполовину влюбленный в нее, полный огромных сожалений, я ушел.
Как-то в конце октября я увидел на улице Тома Бьюкенена. Он вышагивал впереди меня по Пятой авеню с обычной его настороженной агрессивностью – руки слегка разведены в стороны, словно в готовности сбить с ног любого, кто встанет на его пути, голова резко поворачивается то вправо, то влево, едва поспевая за неспокойными глазами. Я замедлил шаг, не желая его нагонять, но тут он остановился, чтобы окинуть мрачным взглядом витрину ювелирного магазина. И вдруг заметил меня и пошел мне навстречу, протягивая руку.
– В чем дело, Ник? Ты не хочешь пожать мою руку?
– Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю.
– Ты спятил, Ник, – быстро сказал он. – Спятил ко всем чертям. Не понимаю, что на тебя нашло.
– Что ты сказал в тот день Уилсону, Том? – спросил я.
Он молча уставился на меня, и я понял, что правильно догадался, куда пропал тогда на три часа Уилсон. Я повернулся, намереваясь уйти, но Том шагнул за мной следом и схватил меня за плечо.
– Я сказал ему правду, – начал он. – Уилсон пришел к двери моего дома, когда мы еще готовились к отъезду, я послал вниз слугу, сказать, что нас нет, и тогда он ворвался в дом и силой пробился наверх. Он обезумел настолько, что мог убить меня, если бы я не сказал, чья это была машина. Все время, какое он провел в моем доме, его рука сжимала в кармане револьвер… – Том помолчал, с вызовом глядя на меня. – Ну, сказал я ему, ну и что? Этот малый все равно кончил бы плохо. Он пускал пыль в глаза – сначала тебе, потом Дэйзи, – а на деле-то был бандит бандитом. Переехал Мертл, как собаку, и даже не притормозил.
Я мог сказать ему только одно: ты заблуждаешься, но это было непозволительно.
– И если ты думаешь, что я жил припеваючи… знаешь, когда я приехал в ту квартиру, чтобы отказаться от нее, и увидел на буфете чертову коробку собачьих галет, я сел и зарыдал, как ребенок. Господи, какой это был ужас…
Я не мог ни простить его, ни одобрить, но понимал, что сделанное им было, на его взгляд, полностью оправданным. Бездумность и беззаботность – все беды от них. Они были людьми беззаботными, Том и Дэйзи, они разбивали вдребезги вещи и жизни, а затем возвращались в свой мир денег или безбрежной беззаботности – не знаю уж, что удерживало их рядом друг с дружкой, – предоставляя другим разгребать оставленную ими грязь…
Я пожал ему руку, да и глупо было не пожать, потому что мне показалось вдруг, что я разговариваю с ребенком. И он зашел в ювелирный магазин купить низку жемчуга – а может, всего лишь пару запонок, – навсегда избавившись от моей провинциальной привередливости.
Когда я уезжал, дом Гэтсби еще стоял пустым – трава на его лужайке уже сравнялась высотою с моей. Один из таксистов нашей деревни ни разу не проехал мимо ворот дома без того, чтобы не остановиться на минуту и указать на него своему пассажиру; возможно, это он в ночь, когда случилось несчастье, отвозил Дэйзи и Гэтсби на Ист-Эгг и, возможно, получал теперь удовольствие, рассказывая об этом. Мне его россказни слушать не хотелось, и, сходя с поезда, я никогда в его машину не садился.
Субботние ночи я проводил в Нью-Йорке, поскольку блестящие, ослепительные приемы Гэтсби оставались в моей памяти такими живыми, что я по-прежнему слышал негромкую музыку и непрестанный смех, доносившиеся из его парка, по-прежнему видел снующие по подъездной дорожке машины. А в одну ночь услышал и машину вполне материальную, увидел, как ее огни замерли у парадных ступеней дома. Но выяснять, что там к чему, не стал. Скорее всего, приезжал некий запоздалый гость, проведший какое-то время на другом конце земли и не знавший, что веселье закончи- лось.
В последнюю ночь – чемодан мой был уложен, машина продана хозяину бакалейной лавки – я пошел к дому, чтобы еще раз взглянуть на этого огромного, несуразного неудачника. Какой-то мальчишка куском кирпича нацарапал на белой ступени похабное слово, ставшее особенно отчетливым под светом луны, и я подошвой соскреб его с камня. А потом вышел на пляж и присел на песке.
Огромные береговые дома были уже по большей части закрыты, огни почти нигде не горели, только призрачно светившийся паром медленно шел по Проливу. Луна поднималась все выше, лишившиеся смысла дома таяли в ее свете, и постепенно я начинал понимать, как когда-то расцвел этот старый остров под взглядами голландских моряков, став для них свежей, зеленой грудью нового мира. Исчезнувшие деревья его, деревья, уступившие место дому Гэтсби, когда-то шепотком потакали последнему и величайшему из всех человеческих мечтаний; и на преходящий, зачарованный миг человек, наверное, затаил перед ликом нового континента дыхание, приневоленный к эстетическому созерцанию, коего он и не жаждал, и не понимал, последний раз в истории столкнувшись лицом к лицу с чем-то, соразмерным его способности удивляться.
И сидя там, размышляя о давнем, неведомом мире, я вдруг представил себе, как поразился Гэтсби, впервые увидев зеленый огонек, горевший на краю причала Дэйзи. Долгий путь прошел он, чтобы попасть на свою голубую лужайку, и мечта его, надо думать, казалась ему такой близкой, что потерпеть неудачу в попытке ухватить ее было попросту невозможно. Он не знал, что она уже осталась у него за спиной, где-то там, в лежащей за Нью-Йорком бескрайней тьме, среди раскинувшихся в ночи полей Америки.
Гэтсби верил в зеленый огонек, в оргастическое будущее, что год за годом отступает от нас. Да, оно не дается нам в руки, но это не важно – завтра мы и побежим быстрее, и руки протянем дальше… И в одно прекрасное утро…
Так мы и бьемся, лодки, идущие против течения, и оно неустанно относит нас в прошлое.
Ночь нежна
ДЖЕРАЛЬДУ и САРЕ
Лучше относиться к родителям.
– Я на эту книгу случайно напал, – сказал старик. – Она многое объясняет, верно?
– Многое.
– Джимми просто не мог не добиться успеха. То такое решение примет, то эдакое, и так все время. Вы заметили, что он про развивающую книгу написал? В этом он разбирался. Однажды сказал мне, что я жру как свинья, так я его поколотил.
И книжку закрывать ему тоже не хотелось. Он прочитал все записи вслух, значительно поглядывая на меня. По-моему, он почти ожидал, что я перепишу их для собственного употребления.
Незадолго до трех из Флашинга приехал лютеранский священник, и я начал невольно поглядывать в окно, надеясь увидеть и другие машины. То же и отец Гэтсби. Но время тянулось, пришли и в ожидании выстроились вдоль стены вестибюля слуги, и старик начал беспокойно помаргивать, говорить что-то невнятное и тревожное насчет дождя. Священник несколько раз посмотрел на часы, я отвел его в сторону, попросил подождать еще полчаса. Без толку. Никто не приехал.
Около пяти наша состоявшая из трех машин вереница достигла кладбища и остановилась под густой моросью у ворот – впереди катафалк, до ужаса черный и мокрый, за ним лимузин, в котором сидели мистер Гэтц, священник и я, а за нами немного отставший моторный фургон Гэтсби с четырьмя-пятью слугами и почтальоном Вест-Эгг – все промокшие до нитки. Когда мы проходили в ворота, я услышал, как затормозила еще одна машина, и кто-то зашлепал, нагоняя нас, по раскисшей земле. Я оглянулся. То был мужчина в совиных очках – тот, что три месяца назад дивился в библиотеке Гэтсби на книги.
С той ночи я его ни разу не видел. Не знаю, откуда ему стало известно о похоронах, даже имени его не знаю. Струи дождя стекали по толстым стеклам его очков, и он снял их и протер, чтобы посмотреть, как из вырытой для Гэтсби могилы вытаскивают и скатывают защищавший ее от воды брезент.
Я попытался думать о Гэтсби, однако он ушел уже слишком далеко, и я вспомнил только, без негодования впрочем, что Дэйзи не прислала ни телеграммы, ни цветов. До ушей моих донеслось невнятное бормотание, что-то вроде: «Блаженны мертвые, на коих падает дождь», а затем Совиноглазый произнес молодецким голосом: «Воистину так!»
Мы торопливо пошли под дождем к машинам. В воротах он заговорил со мной:
– Прямо к дому я не поспел.
– И никто не поспел.
– Да что вы, – испугался он. – О Господи, как же так? Они же к нему сотнями приезжали!
Он снял очки, снова протер стекла снаружи и изнутри и сказал:
– Несчастный сукин сын!
Определенная часть самых живых моих воспоминаний связана с предрождественскими возвращениями на Запад из частной школы, а позже – из университета. Те, кому предстояло ехать дальше Чикаго, сходились в шесть часов декабрьского вечера на тусклом, старом вокзале Юнион-Стейшн, чтобы торопливо попрощаться с несколькими чикагскими друзьями, уносимыми потоком каникулярного веселья. Помню шубки девушек, возвращавшихся домой из пансиона мисс Такой или Этакой, их щебет, парок изо ртов, поднятые над головами ладони, которыми мы помахивали, увидев давних знакомых, помню взаимные приглашения: «Ты к Ордуэям заглянешь? А к Херси? А к Шульцам?» – и длинные зеленые билеты, крепко сжимаемые руками в перчатках. И помню, наконец, стоявшие у перрона мрачновато-желтые вагоны железной дороги «Чикаго, Милуоки и Сент-Пол», казавшиеся такими же веселыми, как само Рождество.
Когда паровоз вытягивал нас в зимнюю ночь, и настоящий снег, наш снег, распростирался вокруг, мерцая за окнами, и тусклые огни маленьких висконсинских станций проносились за ними, воздух внезапно становился резким, девственным, крепким. Возвращаясь из вагона-ресторана, мы в каждом холодном тамбуре вдыхали этот воздух полной грудью, без всяких слов сознавая наше единство со страной – всего на один странный час, а когда он закончится, мы снова растворимся в ней без следа.
Таков мой Средний Запад – не хлеба, не прерии, не затерянные в них шведские городки, но подрагивающие возвратные поезда моей юности, и уличные фонари, и санные колокольчики в морозном мраке, и тени венков из ветвей остролиста, бросаемые льющимся из окон светом на снег. Я – неотъемлемая часть всего этого, немного высокопарная оттого, что память моя хранит те долгие зимы, немного самодовольная потому, что вырос я в доме Каррауэев, в городе, чьи здания многие десятилетия носили имена их владельцев, да носят и сейчас. Я понимаю теперь, что рассказал, в конечном счете, историю Запада: Том и Гэтсби, Дэйзи, Джордан и я – все мы родом оттуда и все, быть может, обладаем одним общим изъяном, который мешает нам с головой уйти в жизнь Востока.
Даже в мгновения, когда Восток волновал меня пуще всего, когда я с особой силой ощущал его превосходство над скучающими, раскидистыми, расползшимися городами, что стоят по ту сторону Огайо и зудят от бесконечных пересудов, щадящих только детей да глубоких стариков, – даже тогда я чувствовал в нем нечто извращенное, перекошенное. Особенно в Вест-Эгг, которое и поныне появляется в самых фантастических моих снах. В них оно походит на ночную сцену Эль Греко: сотни домов, одновременно и привычных, и гротесковых, припавших к земле под вздувшимся, низко нависшим небом и тусклой луной. На переднем плане четверо мужчин во фраках идут по тротуару с носилками, на которых лежит пьяная женщина в белом вечернем платье. Свисающая с носилок рука ее болтается, холодно поблескивая драгоценными камнями. Мужчины производят степенный разворот и входят в дом – не в тот, какой нужен. Впрочем, имени женщины ни один из них не знает, да оно им и не интересно.
Таким начал являться мне после смерти Гэтсби Восток – перекошенным до того, что как ни напрягал я глаза, а выправить его не мог. И когда воздух наполнился голубоватым дымком ломких листьев и ветер начал срывать с веревок зябнувшее после стирки белье, я решил вернуться домой.
Однако перед отъездом мне надлежало докончить одно неловкое, неприятное дело. Возможно, правильнее было бы с ним не связываться, но мне хотелось уехать, все приведя в порядок, не оставить на берегу никакого сора, пусть даже я был уверен, что услужливое, равнодушное море быстро смоет его. И я встретился с Джордан Бейкер, и рассказал ей, что думаю о случившемся с нами и о том, что случилось со мной после, и она выслушала меня, неподвижно покоясь в большом кресле.
Джордан была одета для гольфа, и, помню, я подумал, что она походит на хорошую иллюстрацию к какому-то рассказу, – чуть приподнятый, не без франтовства, подбородок, волосы цвета осенней листвы, лицо такого же смуглого тона, как митенка на лежавшей поверх колена руке. Когда я закончил, Джордан, не снизойдя до комментариев, сказала мне, что помолвлена. Я не поверил ей – хоть и знал о существовании нескольких мужчин, за каждого из которых она могла выйти, просто кивнув ему, – однако притворился удивленным. С минуту, не больше, я гадал, не совершаю ли ошибку, но затем быстро обдумал все еще раз и встал, собираясь проститься.
– Так или иначе, но ты бросил меня, – вдруг сказала Джордан. – Тогда, по телефону. Сейчас мне на тебя наплевать, но тогда это было чем-то новеньким для меня и на недолгое время выбило из седла.
Мы пожали друг дружке руки.
– Да, а помнишь наш давний разговор о водителях? – прибавила она.
– Смутно – а что?
– Ты сказал тогда, что плохому водителю ничто не грозит только до встречи с другим таким же. Ну вот я и встретила другого плохого водителя, так? Я о том, что была слишком неосторожна и оттого сильно ошиблась в моих предположениях. Я считала тебя человеком честным, прямым. Думала, что ты втайне гордишься этим.
– Мне тридцать, – ответил я. – Я уж пять лет как вышел из возраста, в котором человек врет себе и зовет это честностью.
Она не ответила. Рассерженный, все еще наполовину влюбленный в нее, полный огромных сожалений, я ушел.
Как-то в конце октября я увидел на улице Тома Бьюкенена. Он вышагивал впереди меня по Пятой авеню с обычной его настороженной агрессивностью – руки слегка разведены в стороны, словно в готовности сбить с ног любого, кто встанет на его пути, голова резко поворачивается то вправо, то влево, едва поспевая за неспокойными глазами. Я замедлил шаг, не желая его нагонять, но тут он остановился, чтобы окинуть мрачным взглядом витрину ювелирного магазина. И вдруг заметил меня и пошел мне навстречу, протягивая руку.
– В чем дело, Ник? Ты не хочешь пожать мою руку?
– Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю.
– Ты спятил, Ник, – быстро сказал он. – Спятил ко всем чертям. Не понимаю, что на тебя нашло.
– Что ты сказал в тот день Уилсону, Том? – спросил я.
Он молча уставился на меня, и я понял, что правильно догадался, куда пропал тогда на три часа Уилсон. Я повернулся, намереваясь уйти, но Том шагнул за мной следом и схватил меня за плечо.
– Я сказал ему правду, – начал он. – Уилсон пришел к двери моего дома, когда мы еще готовились к отъезду, я послал вниз слугу, сказать, что нас нет, и тогда он ворвался в дом и силой пробился наверх. Он обезумел настолько, что мог убить меня, если бы я не сказал, чья это была машина. Все время, какое он провел в моем доме, его рука сжимала в кармане револьвер… – Том помолчал, с вызовом глядя на меня. – Ну, сказал я ему, ну и что? Этот малый все равно кончил бы плохо. Он пускал пыль в глаза – сначала тебе, потом Дэйзи, – а на деле-то был бандит бандитом. Переехал Мертл, как собаку, и даже не притормозил.
Я мог сказать ему только одно: ты заблуждаешься, но это было непозволительно.
– И если ты думаешь, что я жил припеваючи… знаешь, когда я приехал в ту квартиру, чтобы отказаться от нее, и увидел на буфете чертову коробку собачьих галет, я сел и зарыдал, как ребенок. Господи, какой это был ужас…
Я не мог ни простить его, ни одобрить, но понимал, что сделанное им было, на его взгляд, полностью оправданным. Бездумность и беззаботность – все беды от них. Они были людьми беззаботными, Том и Дэйзи, они разбивали вдребезги вещи и жизни, а затем возвращались в свой мир денег или безбрежной беззаботности – не знаю уж, что удерживало их рядом друг с дружкой, – предоставляя другим разгребать оставленную ими грязь…
Я пожал ему руку, да и глупо было не пожать, потому что мне показалось вдруг, что я разговариваю с ребенком. И он зашел в ювелирный магазин купить низку жемчуга – а может, всего лишь пару запонок, – навсегда избавившись от моей провинциальной привередливости.
Когда я уезжал, дом Гэтсби еще стоял пустым – трава на его лужайке уже сравнялась высотою с моей. Один из таксистов нашей деревни ни разу не проехал мимо ворот дома без того, чтобы не остановиться на минуту и указать на него своему пассажиру; возможно, это он в ночь, когда случилось несчастье, отвозил Дэйзи и Гэтсби на Ист-Эгг и, возможно, получал теперь удовольствие, рассказывая об этом. Мне его россказни слушать не хотелось, и, сходя с поезда, я никогда в его машину не садился.
Субботние ночи я проводил в Нью-Йорке, поскольку блестящие, ослепительные приемы Гэтсби оставались в моей памяти такими живыми, что я по-прежнему слышал негромкую музыку и непрестанный смех, доносившиеся из его парка, по-прежнему видел снующие по подъездной дорожке машины. А в одну ночь услышал и машину вполне материальную, увидел, как ее огни замерли у парадных ступеней дома. Но выяснять, что там к чему, не стал. Скорее всего, приезжал некий запоздалый гость, проведший какое-то время на другом конце земли и не знавший, что веселье закончи- лось.
В последнюю ночь – чемодан мой был уложен, машина продана хозяину бакалейной лавки – я пошел к дому, чтобы еще раз взглянуть на этого огромного, несуразного неудачника. Какой-то мальчишка куском кирпича нацарапал на белой ступени похабное слово, ставшее особенно отчетливым под светом луны, и я подошвой соскреб его с камня. А потом вышел на пляж и присел на песке.
Огромные береговые дома были уже по большей части закрыты, огни почти нигде не горели, только призрачно светившийся паром медленно шел по Проливу. Луна поднималась все выше, лишившиеся смысла дома таяли в ее свете, и постепенно я начинал понимать, как когда-то расцвел этот старый остров под взглядами голландских моряков, став для них свежей, зеленой грудью нового мира. Исчезнувшие деревья его, деревья, уступившие место дому Гэтсби, когда-то шепотком потакали последнему и величайшему из всех человеческих мечтаний; и на преходящий, зачарованный миг человек, наверное, затаил перед ликом нового континента дыхание, приневоленный к эстетическому созерцанию, коего он и не жаждал, и не понимал, последний раз в истории столкнувшись лицом к лицу с чем-то, соразмерным его способности удивляться.
И сидя там, размышляя о давнем, неведомом мире, я вдруг представил себе, как поразился Гэтсби, впервые увидев зеленый огонек, горевший на краю причала Дэйзи. Долгий путь прошел он, чтобы попасть на свою голубую лужайку, и мечта его, надо думать, казалась ему такой близкой, что потерпеть неудачу в попытке ухватить ее было попросту невозможно. Он не знал, что она уже осталась у него за спиной, где-то там, в лежащей за Нью-Йорком бескрайней тьме, среди раскинувшихся в ночи полей Америки.
Гэтсби верил в зеленый огонек, в оргастическое будущее, что год за годом отступает от нас. Да, оно не дается нам в руки, но это не важно – завтра мы и побежим быстрее, и руки протянем дальше… И в одно прекрасное утро…
Так мы и бьемся, лодки, идущие против течения, и оно неустанно относит нас в прошлое.
Ночь нежна
ДЖЕРАЛЬДУ и САРЕ