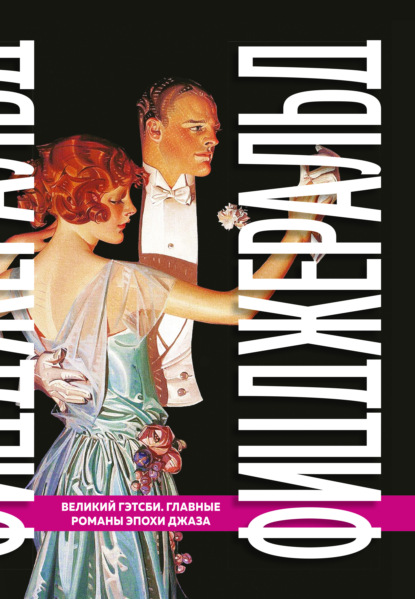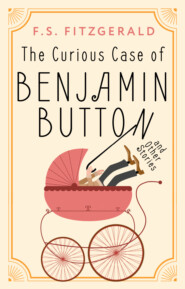По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Великий Гэтсби. Главные романы эпохи джаза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В голову мне пришла новая мысль. А вдруг Том уже узнал, что машину вела Дэйзи? Он может подумать, что все произошло не случайно, – может подумать что угодно. Я окинул взглядом дом: два или три горящих окна внизу, розовое свечение в комнате Дэйзи на втором этаже.
– Постойте здесь, – сказал я. – Пойду посмотрю, все ли там тихо.
Я возвратился назад по краю лужайки, тихо пересек гравиевую дорожку и на цыпочках взошел на веранду. Шторы гостиной были разведены, однако она оказалась пустой. Пройдясь по веранде, на которой мы обедали тем июньским трехмесячной давности вечером, я приблизился к небольшому прямоугольнику света, лившегося, по моей догадке, из буфетной. Жалюзи ее были опущены, но над самым подоконником осталась щелка.
Дэйзи и Том сидели за кухонным столом лицами друг к дружке, между ними стояли две бутылки эля и блюдо с холодной жареной курицей. Он что-то пылко втолковывал ей, неотрывно глядя в ее лицо и накрывая ладонь жены своей ладонью. Она время от времени поднимала на него взгляд и согласно кивала.
Они не выглядели счастливыми, ни к курице, ни к элю оба даже не притронулись – но не выглядели и несчастными. В картине этой присутствовала естественная интимность, и, наверное, всякий, увидев ее, сказал бы, что они о чем-то сговариваются.
На цыпочках спускаясь с веранды, я услышал, как по темному шоссе приближается к дому такси. Гэтсби ждал на дорожке, в точности там, где я покинул его.
– Все тихо? – тревожно спросил он.
– Да, все тихо. – Я поколебался. – Вам лучше поехать домой и лечь спать.
Он потряс головой.
– Подожду, пока ляжет Дэйзи. Спокойной ночи, старина.
Он засунул руки в карманы пиджака и нетерпеливо отвернулся к дому – так, словно мое присутствие оскверняло святость его бдения. И я ушел, оставив его, блюстителя пустоты, стоять под светом луны.
Глава восьмая
Толком поспать я в ту ночь не смог: в Проливе, не умолкая, стонал туманный горн, и я метался, полубольной, между фантастической реальностью и дикими, пугающими снами. Услышав перед рассветом такси, заехавшее на подъездную дорожку Гэтсби, я выскочил из постели и стал одеваться – я чувствовал, что должен сказать ему кое-что, предостеречь, а утром может быть уже слишком поздно.
Переходя его лужайку, я увидел, что парадная дверь дома распахнута, а за ней различил и Гэтсби – подавленный, полусонный, он стоял в вестибюле, опираясь руками о стол.
– Ничего не произошло, – вяло сказал он. – Я ждал, а около четырех она подошла к окну, постояла с минуту и выключила свет.
Никогда еще дом Гэтсби не казался мне таким огромным, как той ночью, когда мы рыскали по его залам в поисках сигарет. Мы раздвигали шторы, похожие на полы шатра, ощупывали в поисках выключателей бесчисленные футы темных стен – один раз я, споткнувшись, налетел во мраке на клавиатуру призрачного рояля, и из него брызгами посыпались звуки. Все покрывала необъяснимо густая пыль, воздух был затхл, походило на то, что дом уже много дней не проветривали. Наконец я нашел на незнакомом столе коробку для сигар, а в ней две выдохшиеся сухие сигареты. Мы перешли в гостиную, распахнули французские окна и посидели, куря в темноте.
– Вам лучше уехать, – сказал я. – Машину вашу они отыщут, и сомневаться нечего.
– Уехать сейчас, старина?
– Переберитесь на неделю в Атлантик-Сити, а то и в Монреаль.
Он и думать об этом не желал. Не мог он оставить Дэйзи, не выяснив прежде ее намерений. Он цеплялся за какую-то последнюю надежду, а мне не хватало решимости отнять ее.
Именно в ту ночь он и рассказал мне о своей странной юности, о годах, проведенных им в обществе Дэна Коди, – рассказал потому, что безжалостная злоба Тома разбила «Джея Гэтсби» вдребезги, как стекло, и долгая феерия, которую он втайне разыгрывал, исчерпала себя. Думаю, он мог бы тогда признаться мне во всем, без утайки, но ему хотелось поговорить о Дэйзи.
Она была первой «хорошей» девушкой, какую он в своей жизни встретил. Примеряя на себя личины самые разные (о них Гэтсби распространяться не стал), он время от времени сталкивался с такими людьми, однако его всегда отделяли от них незримые ряды колючей проволоки. Ее же Гэтсби нашел головокружительно желанной. Он посещал ее дом – сначала с другими офицерами Кэмп-Тейлора, потом в одиночку. И тот поражал Гэтсби – ему еще не доводилось бывать в таком прекрасном доме. Но особым, занимающим дух электричеством насыщало воздух дома то обстоятельство, что в нем жила Дэйзи, – для нее он был так же привычен, как для Гэтсби его лагерная палатка. Дом хранил настоянные на времени тайны – намек на присутствие в верхнем этаже спален, таких роскошных и прохладных, каких нигде больше и не увидишь; на веселые, изобретательные проделки, которые когда-то устраивались во всех его коридорах; на любовные похождения – не затянувшиеся плесенью, не сберегаемые на память под слоем сушеного цвета лаванды, но живые, свежие, живые, напоминающие своим блеском только что изготовленные автомобили; на балы, чьи цветы еще не успели увянуть. Волновало его и то, что в Дэйзи уже влюблялись многие, – это заставляло Гэтсби еще пуще ценить ее. Он ощущал присутствие в доме этих мужчин, они наполняли воздух тенями и отзвуками все еще трепетных чувств.
Однако он понимал, что попал в дом Дэйзи благодаря невероятной удаче. Сколь бы ни славным могло стать его, Джея Гэтсби, будущее, покамест он оставался молодым человеком без прошлого и без гроша в кармане, а плащ-невидимка, каким был для него офицерский мундир, мог в любую минуту соскользнуть с его плеч. Вот он и старался как можно лучше распорядиться тем временем, какое у него еще оставалось. Он привык брать алчно и без зазрения совести все, что шло ему в руки, и, в конце концов, одной тихой октябрьской ночью взял и Дэйзи – взял, потому что не вправе был даже к руке ее прикоснуться.
Он мог проникнуться презреньем к себе, потому что взял ее обманом. Я не хочу сказать, что Гэтсби сыграл на своих фиктивных миллионах, но мысль о том, что опасаться ей нечего, он Дэйзи внушил, заставил ее поверить, что принадлежит к одному с ней кругу и вполне способен обеспечить ее. На деле же у него не было ничего – не было обладавшей достатком семьи, всегда готовой его поддержать, ничего, – жизнь Гэтсби зависела от каприза безликого правительства, способного загнать его в какой угодно уголок земного шара.
Однако презрения не было и в помине, да и обернулось все не так, как он ожидал. Он намеревался, надо думать, взять что плохо лежит да и улепетнуть, – а обнаружил, что обрек себя на пожизненные поиски Грааля. Он знал, что Дэйзи – существо неординарное, но не понимал, насколько необычайной может быть «хорошая» девушка. В ту ночь она удалилась в свой богатый дом, в богатую, полную жизнь, оставив Гэтсби – ни с чем. А он почувствовал себя обвенчанным с нею – не больше и не меньше.
Когда они встретились два дня спустя, именно у Гэтсби, не у нее, перехватило дыхание, именно он почему-то почувствовал себя обманутым. Веранда ее дома купалась в сиянии купленных за немалые деньги звезд; плетеное канапе фешенебельно скрипнуло, когда она повернулась к нему, и он поцеловал ее в любознательные, прелестные губы. Дэйзи простыла, отчего голос ее стал чуть более хриплым, чарующим, как никогда, и Гэтсби ошеломленно осознал, какую молодость и тайну взяло в заточение и питает богатство, осознал чистоту ее одежд и саму Дэйзи, поблескивавшую, как серебро, благополучную и гордую, стоящую выше потных потуг бедноты.
– Я и сказать вам не могу, старина, как удивился, поняв, что люблю ее. Я даже надеялся недолгое время, что она бросит меня, но она не бросила, потому что тоже меня любила. И считала кладезем премудрости – просто из-за того, что я знал то, чего не знала она… И вот вам – я махнул рукой на мои амбиции, и это нисколько меня не заботило, и с каждой минутой влюблялся все сильнее. Да и что было толку от великих свершений, если я мог приятно проводить время, просто рассказывая ей о том, что собираюсь совершить?
В последний перед тем, как отбыть за границу, вечер он долго сидел, обнимая Дэйзи и не говоря ни слова. Вечер был холодный, осенний, в комнате горел камин, щеки ее раскраснелись. Время от времени Дэйзи поерзывала, и он немного передвигал руку, а один раз поцеловал ее темные, блестящие волосы. Вечер как-то умиротворил их – словно бы для того, чтобы снабдить обоих на время долгой, обещаемой завтрашним днем разлуки пылкими воспоминаниями. За месяц любви они ни разу не ощутили такой близости, такого полного понимания друг дружки, как в эти минуты, когда она легко и безмолвно проводила губами по плечу его кителя или когда он нежно, словно боясь разбудить Дэйзи, касался кончиков ее пальцев.
Во время войны Гэтсби проявил себя блестяще. Чин капитана он получил еще до отправки на фронт, а после сражения в Аргонском лесу его произвели в майоры и отдали ему под начало дивизионных пулеметчиков. После Перемирия он предпринимал отчаянные усилия, чтобы возвратиться домой, однако вследствие некоторых осложнений или недопонимания был отправлен в Оксфорд. Теперь его снедала тревога – в письмах Дэйзи появилась нервная нотка отчаяния. Она не понимала, почему он не может вернуться. Ощущала натиск внешнего мира и хотела увидеть Гэтсби, почувствовать его близость, обрести окончательную уверенность в своей правоте.
Ибо Дэйзи была молода, а искусственный мир, в котором она жила, наполняли орхидеи, приятный, веселый снобизм, оркестры, которые определяли ритм каждого года, подытоживая в новых мелодиях печаль и вседозволенность жизни. Ночи напролет завывали саксофоны, выводя лишенные надежд комментарии «Бил-стрит блюза» к жизни, и сотни пар серебристых и золотистых туфелек шаркали, поднимая посверкивавшую пыль. В серый час чаепитий всегда находились гостиные, которые без устали сотрясал этот негромкий сладкий озноб, и юные лица плыли там и сям по воздуху, как лепестки роз, сдутые грустными трубами.
С наступлением очередного сезона Дэйзи вновь начала вращаться в этой сумеречной вселенной; и неожиданно у нее вновь стало что ни день назначаться по полудюжине свиданий с полудюжиной мужчин, и она засыпала лишь на рассвете – в бусах и смятом шифоне вечернего платья, и орхидеи умирали на полу возле ее кровати. Но все это время что-то в ней кричало, требуя, чтобы она приняла решение. Ей хотелось теперь, чтобы ее жизнь приняла какую-то форму, немедленно, чтобы некая сила – любви, денег, неистребимой практичности – заставила ее решиться на то, к чему довольно было лишь протянуть руку.
И в середине весны сила эта явилась в обличье Тома Бьюкенена. И в личности его, и в положении, которое занимал он в обществе, присутствовала благотворная цельность, льстившая Дэйзи. Нечего и сомневаться, она и боролась с собой, и испытывала определенное облегчение. Письмо ее достигло Гэтсби, когда он был еще в Оксфорде.
Над Лонг-Айлендом уже загорался рассвет, мы прошлись по первому этажу, открывая окна, наполняя дом то серым, то золотистым светом. Резкая тень дерева на росе, призрачные птицы запевали в синеватой листве. В воздухе ощущался не так чтобы ветер, но неторопливое, приятное движение, обещавшее чудный, прохладный день.
– Не думаю, что она когда-нибудь любила его. – Гэтсби, отвернувшись от окна, с вызовом взглянул на меня. – Не забывайте, старина, она очень волновалась вчера. Он запугал ее своими словами, попытками выставить меня дешевым жуликом. И она едва понимала, что говорит.
Он, помрачнев, опустился в кресло.
– Конечно, она могла любить его минуту-другую, когда они только еще поженились, – и одновременно любить меня, гораздо сильнее, понимаете?
За чем последовало замечание совсем уж удивительное.
– Как бы то ни было, – сказал он, – это ее личное дело.
Что мог я вывести из этого? – разве что заподозрить наличие некой неизмеримой глубины в представлениях Гэтсби об их любви.
Он возвратился из Франции, когда свадебное путешествие Дэйзи с Томом еще продолжалось, и потратил остатки армейского жалованья на горестную поездку в неодолимо влекший его Луисвилл. Провел там неделю, бродя по улицам, помнившим звук их общих шагов в ноябрьской ночи, посещая глухие окраинные уголки, в которые они приезжали на ее белой машине. Так же, как дом Дэйзи всегда казался ему более загадочным и веселым, чем все остальные, сложившийся у Гэтсби образ самого города был пропитан, хоть Дэйзи его и покинула, меланхолической красотой.
Уезжая, он не мог отделаться от мысли, что если б искал поусерднее, то нашел бы ее – что он бросает Дэйзи на произвол судьбы. В сидячем вагоне – денег у Гэтсби практически не осталось – было жарко. Он вышел в тамбур, двери которого были открыты, опустился на откидное сиденье, и вокзал отскользнул назад, и тыльные фасады незнакомых домов поплыли мимо него. Затем поезд выбрался в весенние поля, и там за ним с минуту гнался желтый трамвай, наполненный людьми, каждый из которых мог когда-то увидеть на той или иной улице бледное, волшебное лицо Дэйзи.
Поезд повернул и теперь уходил от садившегося солнца, благословлявшего, казалось, оставленный Гэтсби город, в котором она появилась на свет. В отчаянии он протянул руку, словно пытаясь схватить клок воздуха, сберечь кусочек тех мест, где она любила его. Но поезд шел уже слишком быстро, все размазывалось перед глазами Гэтсби, и он понял, что потерял эту часть своего прошлого, самую чистую и самую лучшую, навсегда.
Когда мы покончили с завтраком и вышли из дома, чтобы посидеть на террасе, было уже девять. За ночь погода резко переменилась, в воздухе запахло осенью. Вскоре к подножию лестницы подошел садовник, единственный из прежних слуг Гэтсби, кто сохранил свое место.
– Я собираюсь спустить сегодня воду в бассейне, мистер Гэтсби. Скоро нападают листья, а они могут трубы забить.
– Только не сегодня, – ответил Гэтсби. И повернулся ко мне с таким лицом, словно хотел извиниться за что-то. – Знаете, старина, я за все лето так в бассейне и не поплавал.
Я посмотрел на часы и встал.
– До моего поезда осталось двенадцать минут.
Ехать в город мне не хотелось. Работник из меня в тот день был никакой – а главное, я не хотел оставлять Гэтсби одного. Я пропустил и этот поезд, и следующий, но потом все же заставил себя уйти.
– Я вам позвоню, – сказал я на прощание.
– Позвоните, старина.