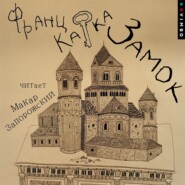По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Превращение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он укрепил фонарь на конце дышла, и лошадь, понукаемая сиплым выкриком, тронула, а скопившаяся на крыше омнибуса вода, колыхнувшись, тонкой струйкой потекла внутрь, сквозь щель.
Дорога, видимо, была ухабистая, грязь налипала на спицы, вода веером разлеталась из-под колес, и кучер редко натягивал поводья и не торопил вымокшую под дождем лошадь.
Разве у кучера не было оснований винить во всем этом Рабана? Бесконечные лужи внезапно возникали в дрожащем свете фонаря и расступались волнами. И все это лишь потому, что Рабан ехал к своей невесте, к Бетти, миловидной стареющей девице. И кто бы стал, зайди об этом речь, отдавать должное заслугам Рабана – хотя бы потому, что он был вынужден выносить упреки, которые ему, правда, никто не имел возможности высказать. Конечно, он ехал сюда по своей охоте, Бетти была его невеста, он ее любил, и было бы ужасно, начни она благодарить его за то, что он приехал; но тем не менее…
Он несколько раз ударился головой о стенку, к которой прислонился, потом отодвинулся и стал глядеть в потолок. Один раз рука, которой он опирался о колено, соскользнула. Но локоть так и остался зажатым между животом и бедром.
Омнибус ехал уже по улице, иногда в кабину падал свет от освещенного окна, к церкви вела каменная лестница – Рабану пришлось приподняться, чтобы увидеть ее нижние ступени, перед калиткой парка горел большой фонарь, однако статуя какого-то святого выступала черным силуэтом на фоне освещенной мелочной лавки. Теперь Рабан заметил, что свеча его догорела, и расплавленный воск, затвердев, неподвижно свисал со скамьи.
Когда омнибус остановился перед трактиром, шум дождя стал слышнее, но одновременно до слуха Рабана донеслись также и голоса постояльцев – вероятно, одно из окон было открыто; тут он заколебался – что лучше: сразу выйти или подождать, пока хозяин подойдет к омнибусу. Как было принято поступать в этой глухомани, он не знал, но Бетти наверняка уже успела всем рассказать о своем женихе, и от того, каким он им предстанет – великолепным или жалким, – отношение к ней улучшится или ухудшится, а значит, и к нему самому тоже. Но он не знал ни того, как к ней сейчас относятся, ни того, что именно она о нем рассказывала; тем труднее и неприятнее! Как прекрасен мой город и как прекрасна дорога домой! Если там идет дождь, едешь домой по мокрым каменным плитам мостовой на трамвае, а здесь – в трактир в замызганной колымаге по непролазной грязи. «Мой город далеко отсюда, и умри я сейчас от тоски по дому, сегодня меня уже никто туда не доставит. Ну, я, конечно, не умру – но дома мне бы подали заказанное на нынешний вечер блюдо, справа от тарелки лежала бы газета, слева стояла бы лампа; а здесь мне дадут какую-нибудь ужасно жирную стряпню, – они же не знают, что у меня больной желудок, да хоть бы и знали… И газета будет не та, к которой я привык, и множество людей, чьи голоса я уже слышу, будут толпиться вокруг, и лампа будет на всех одна. Разве она даст достаточно света? Для игры в карты, может, его и хватит, а для чтения газеты?
Хозяин трактира не выходит встречать, ему плевать на гостей, он скорее всего вообще человек невоспитанный. Или же он знает, что я – жених Бетти, и считает это достаточным основанием, чтобы ради меня не утруждаться? Одно к одному – вот и кучер тоже заставил меня так долго ждать на станции. Ведь Бетти часто рассказывала, сколько ей пришлось вынести от похотливых мужчин и как ей приходилось отбиваться от их назойливых ухаживаний; может быть, и здесь то же самое…
Отказ
Когда, повстречав красивую девушку, я прошу ее: «Будь добра, пойдем со мной!» – а она молча проходит мимо, этим она как бы говорит: «Ты не герцог с победно-звонкой фамилией, не широкоплечий американец с осанкой индейца, с дивным разлетом твердо посаженных глаз, со смуглой кожей, омытой ветрами саванн и водами рек, бегущих к саваннам, ты не странствовал к Великим озерам и по ним, загадочным, бескрайним, раскинувшимся неведомо где. Так с какой стати, скажи на милость, мне, красивой девушке, с тобой идти?»
«Но ты забываешь – тебя тоже не катит по переулку плавно покачивающийся автомобиль, и что-то я не вижу втиснутых в ладные костюмы кавалеров твоей свиты, что, благоговейно осыпая тебя хвалами и почестями, следуют за своей госпожой строгим полукругом; твои груди аккуратно упрятаны под корсетом, но твои ноги и бедра с лихвой вознаграждают тело за эту вынужденную стесненность; на тебе платье из тафты с плиссировкой, какие, спору нет, весьма радовали нас еще прошлой осенью, но сейчас, в такой-то старомодной хламиде, чему ты улыбаешься?»
«Что ж, мы оба правы, и чтобы не убеждаться в этом окончательно и бесповоротно, не лучше ли отправиться домой каждому поодиночке – не так ли?»
Приговор
История для Ф.Б.
Это было воскресным утром, дивной весенней порой. Георг Бендеман, молодой коммерсант, сидел в своей комнате, во втором этаже одного из приземистых, наскоро построенных зданий, что вереницей протянулись вдоль реки, слегка отличаясь одно от другого разве лишь высотой и колером покраски. Он только что закончил письмо другу юности, обретавшемуся теперь за границей, с наигранной медлительностью заклеил конверт и, облокотившись на письменный стол, устремил взгляд за окно – на реку, мост и холмы на том берегу, подернувшиеся первой робкой зеленью.
Он размышлял о том, как его друг, недовольный ходом своих дел дома, несколько лет назад буквально сбежал в Россию. Теперь у него была своя торговля в Петербурге, заладившаяся поначалу очень даже споро, но уже давно идущая ни шатко ни валко, если верить сетованиям друга во время его наездов на родину, раз от разу все более редких. Так он и мыкался без всякого толку на чужбине, окладистая борода странно смотрелась на его столь близком, с детства знакомом лице, чья нездоровая желтизна наводила теперь на мысль о первых признаках подкрадывающейся болезни. Друг рассказывал, что с тамошней колонией земляков, по сути, не общается, ни с кем из местных семейств тоже знакомств не завел, так что окончательно и бесповоротно направил свою жизнь в холостяцкую колею.
О чем писать столь очевидно сбившемуся с пути человеку, которому впору посочувствовать, но помочь нечем? Допустим, посоветовать вернуться на родину, начать новую жизнь здесь, возобновив – к чему нет никаких препятствий – прежние отношения и положившись, среди прочего, на помощь друзей? Но это означало бы не что иное, как сказать ему – чем мягче и бережней, тем для него болезненней, – что все прежние его начинания пошли прахом и надо поставить на них крест, пойти на попятный, вернуться сюда, где все будут опасливо пялиться на него именно как на возвращенца, и только немногие друзья отнесутся к нему с пониманием, но и для них он навсегда останется лишь постаревшим ребенком, обреченным безропотно слушаться своих никуда не уезжавших приятелей, ибо те сумели преуспеть дома. Да и есть ли уверенность, что все мучения, которые невольно придется причинить другу подобным посланием, не окажутся напрасными? Удастся ли вообще стронуть его с места, вытащить домой – ведь он сам не раз говаривал, что жизни на родине давно не понимает, – и тогда он, вопреки всему, останется на чужбине, только без нужды ожесточенный непрошеными советами и еще чуть больше отдалившись от своих и без того далеких друзей. Если же он вдруг и в самом деле последует совету, но – и не просто по склонности натуры, а под гнетом обстоятельств – впадет здесь в нищету и уныние, не обретя себя ни с помощью приятелей, ни без них, страдая от стыда и унижений, теперь-то уж окончательно лишившись родины и друзей, – разве в таком случае не правильнее для него оставить все как есть и продолжать жить на чужбине? А учитывая все обстоятельства, возможно ли рассчитывать, что ему и впрямь удастся повернуть здесь свои дела к лучшему?
Исходя из всех этих соображений, получалось, что другу, если вообще поддерживать с ним переписку, ничего существенного, о чем без раздумий напишешь даже самым дальним знакомым, сообщать нельзя. Он уже больше трех лет не был на родине, крайне неубедительно объясняя свое отсутствие политическим положением в России, смутная ненадежность которого якобы исключает для мелкого предпринимателя возможность даже самой краткой отлучки, – и это во времена, когда сотни тысяч русских преспокойно разъезжают по всему свету. Между тем именно за эти три года в жизни Георга очень многое переменилось. О кончине матери, последовавшей около двух лет назад, после чего Георгу пришлось зажить одним хозяйством с престарелым отцом, друг, видимо, еще успел узнать и выразил соболезнование письмом, странная сухость которого объяснялась, вероятно, лишь тем, что вдали, на чужбине, воспроизвести в душе горечь подобной утраты совершенно невозможно. Георг, однако, после этого события гораздо решительнее взялся за ум и за семейное дело. То ли прежде, при жизни матери, по-настоящему самостоятельно развернуться ему мешал отец, ибо признавал в делах только одно мнение, свое собственное. То ли сам отец после смерти матери, хоть и продолжал работать, стал вести себя потише, то ли, и это даже очень вероятно, судьбе охотнее обычного пособил счастливый случай, – как бы там ни было, а за эти два года семейное дело, против всех ожиданий, резко пошло в гору. Штат служащих пришлось удвоить, оборот возрос впятеро, да и в грядущих успехах не приходилось сомневаться.
Друг, между тем, обо всех этих переменах понятия не имел. Прежде – в последний раз, кажется, в том самом письме с соболезнованиями – он все пытался уговорить Георга тоже перебраться на жительство в Россию, расписывая самые наилучшие виды, какие открываются в Петербурге именно в его, Георга, отрасли. А цифры при этом называл ничтожные в сравнении с объемами, которыми ворочает теперь Георг в своем магазине. Тогда Георгу не хотелось расписывать другу свои деловые успехи, а сейчас, задним числом, это тем более выглядело бы странно.
Вот он и ограничивался тем, что писал другу о всякой ерунде, какая без порядка и смысла всплывает в памяти в покойные воскресные часы. Хотелось одного: ни в коем случае не потревожить образ родного города, сложившийся в представлении друга за годы отсутствия, каковым представлением друг, похоже, и предпочитал довольствоваться. В итоге как-то само собой вышло, что о предстоящей помолвке совершенно безразличного ему знакомца со столь же безразличной ему барышней Георг с довольно большими промежутками уведомил друга уже в трех письмах, вследствие чего тот, что никак в намерения Георга не входило, оным курьезным пустяком даже весьма заинтересовался.
И все же Георг предпочитал писать о подобной чепухе, нежели признаться, что сам вот уже месяц как помолвлен – с мадемуазель Фридой Бранденфельд, девушкой из состоятельной семьи. Он, кстати, часто беседовал с невестой об этом своем друге и о странностях их переписки.
– Выходит, он даже на свадьбу не приедет? – удивлялась та. – Мне кажется, я вправе увидеть всех твоих друзей.
– Да не хочется его беспокоить, – отвечал Георг. – Пойми меня правильно, он наверняка приедет, по крайней мере мне хочется так думать, но приедет безо всякой охоты, будет чувствовать себя обделенным, а может, и завидовать мне, и, не в силах устранить саму причину огорчения, конечно же, будет огорчен, что снова возвращается домой один. Один – ты хоть понимаешь, что это значит?
– Но разве не может он прослышать о нашей свадьбе от кого-то еще?
– Что ж, предотвратить этого я не могу, однако при его образе жизни это маловероятно.
– При таких друзьях, Георг, тебе вовсе не стоило бы жениться.
– Да, это наша с тобой общая вина, но даже сейчас мне не хотелось бы ничего менять.
А немного погодя, когда она, прерывисто дыша под его поцелуями, произнесла: «И все-таки меня это задевает», – он подумал, что и вправду ничего обидного не совершит, если начистоту напишет другу все как есть.
«Ну да, я такой, пусть таким меня и принимает, не могу же я перекроить себя в другого человека, более способного к дружбе с ним, нежели я сам».
И действительно, в пространном письме, написанном в это воскресное утро, Георг уведомил друга о своей помолвке вот в каких словах: «А самое радостное известие я припас напоследок. Я заключил помолвку с одной барышней, мадемуазель Фридой Бранденфельд, девушкой из состоятельной семьи, которая поселилась в наших краях много позже твоего отъезда, так что вряд ли ты ее знаешь. Мне еще представится случай рассказать о своей невесте подробнее, сегодня тебе довольно услышать, что я весьма счастлив, а в наших с тобой отношениях переменится лишь одно: вместо самого заурядного друга у тебя теперь будет счастливый друг. Вдобавок и в моей невесте, которая на днях сама тебе напишет, а сейчас шлет сердечный привет, ты обретешь задушевную подругу, что для холостяка отнюдь не безделица. Я знаю, многое удерживает тебя от приезда в родные места. Но разве моя свадьба – не подходящий повод хоть однажды махнуть рукой на все препоны? Впрочем, как бы там ни было, ты волен поступать без церемоний, сугубо по своему усмотрению».
С этим-то письмом в руках Георг и замер в долгом раздумье за письменным столом, устремив взор за окно. Знакомому, который, проходя внизу по улице, с ним поздоровался, он едва ответил отрешенной улыбкой.
Наконец, сунув письмо в карман, он вышел из комнаты и наискосок по коридорчику направился в комнату к отцу, куда не заглядывал уже несколько месяцев. Особой нужды туда заглядывать не было, ведь они с отцом постоянно виделись в магазине. И обедали в одно и то же время в одном трактире, хотя ужинали порознь, по своему хотению и вкусу, но после еще какое-то время сиживали вместе в общей гостиной, каждый за своей газетой, если только Георг, как это чаще всего и бывало, не проводил вечер с друзьями или, как намечалось нынче, в гостях у невесты.
Георг удивился, до чего темно в отцовской комнате даже таким солнечным утром. Вот, значит, как застит свет высоченная стена, нависающая над их узким двориком. Отец сидел у окна в углу, где были собраны и развешены вещицы и фотографии в память о покойной матери, и читал газету, причем держал ее перед собой не прямо, а вкось, подлаживаясь глазами к какой-то старческой немощи зрения. На столе Георг разглядел остатки завтрака; судя по их виду, поел отец без всякого аппетита.
– А-а, Георг, – встрепенулся отец и тотчас направился ему навстречу.
На ходу его тяжелый халат распахнулся, полы резко разошлись в стороны. «Отец у меня все еще богатырь», – успел подумать Георг.
– Здесь же темень несусветная, – вымолвил он чуть позже.
– Верно, темень, – отозвался отец.
– А у тебя еще и окно закрыто?
– Мне так лучше.
– На улице-то совсем тепло, – как бы в подкрепление сказанному заметил Георг, присаживаясь.
Отец принялся убирать со стола посуду, переставляя ее на комод.
– Я только хотел сказать тебе, – продолжал Георг, рассеянно, но неотрывно следя за стариковскими движениями отца, – что все-таки написал в Петербург о своей помолвке.
Он на секунду за самый краешек извлек конверт из кармана и тут же уронил его обратно.
– В Петербург? – переспросил отец.
– Ну да, моему другу, – пояснил Георг, стараясь перехватить отцовский взгляд. «В магазине-то он совсем не такой, – пронеслось у него в голове. – Вон как расселся, вон как руки на груди скрестил».
– Ну да. Твоему другу, – повторил отец со значением.
– Ты же знаешь, отец, сперва я хотел эту новость от него утаить. По одной только причине: щадил его чувства. Сам знаешь, человек он тяжелый. Вот я и сказал себе: если он прослышит о моей свадьбе от кого-то еще, что при его замкнутом образе жизни маловероятно, тут уж ничего не поделаешь, но сам я покамест ничего сообщать ему не стану.
– А теперь, значит, опять передумал? – проговорил отец, откладывая на подоконник пухлую газету, а на газету очки, которые для верности прикрыл ладонью.
– Да, теперь опять передумал. Я сказал себе: если он мне настоящий друг, то счастье моей помолвки и для него будет счастьем. А коли так, самое время обо всем ему сообщить без околичностей. Только вот, прежде чем письмо отправить, тебе зашел сказать.
– Георг, – проговорил отец, странно распяливая беззубый рот, – послушай-ка меня. Ты зашел по делу, зашел посоветоваться. Что, несомненно, делает тебе честь. Только это пшик и даже хуже, чем пшик, если ты, придя посоветоваться, не говоришь мне всей правды. Не стану касаться вещей, которые к делу не относятся. Хотя после смерти нашей незабвенной, дорогой матери кое-какие некрасивые вещи имели место. Может, еще придет время обсудить и их, причем скорее, чем мы думаем. Я стал кое-что упускать в делах, а может, от меня кое-что и скрывают – хотя сейчас мне не хотелось бы думать, что от меня что-то скрывают, – у меня уже и силы не те, и память не та. Столько дел – я не могу, как раньше, все удержать в голове. Во-первых, годы, с природой не поспоришь, а во?вторых, смерть нашей матушки потрясла меня куда сильнее, чем тебя. Но коль скоро мы обсуждаем это дело, говорим об этом письме, прошу тебя, Георг, не надо меня обманывать. Это ведь мелочь, она не стоит и вздоха, поэтому не обманывай меня. Разве у тебя и вправду есть друг в Петербурге? От растерянности Георг встал.
Дорога, видимо, была ухабистая, грязь налипала на спицы, вода веером разлеталась из-под колес, и кучер редко натягивал поводья и не торопил вымокшую под дождем лошадь.
Разве у кучера не было оснований винить во всем этом Рабана? Бесконечные лужи внезапно возникали в дрожащем свете фонаря и расступались волнами. И все это лишь потому, что Рабан ехал к своей невесте, к Бетти, миловидной стареющей девице. И кто бы стал, зайди об этом речь, отдавать должное заслугам Рабана – хотя бы потому, что он был вынужден выносить упреки, которые ему, правда, никто не имел возможности высказать. Конечно, он ехал сюда по своей охоте, Бетти была его невеста, он ее любил, и было бы ужасно, начни она благодарить его за то, что он приехал; но тем не менее…
Он несколько раз ударился головой о стенку, к которой прислонился, потом отодвинулся и стал глядеть в потолок. Один раз рука, которой он опирался о колено, соскользнула. Но локоть так и остался зажатым между животом и бедром.
Омнибус ехал уже по улице, иногда в кабину падал свет от освещенного окна, к церкви вела каменная лестница – Рабану пришлось приподняться, чтобы увидеть ее нижние ступени, перед калиткой парка горел большой фонарь, однако статуя какого-то святого выступала черным силуэтом на фоне освещенной мелочной лавки. Теперь Рабан заметил, что свеча его догорела, и расплавленный воск, затвердев, неподвижно свисал со скамьи.
Когда омнибус остановился перед трактиром, шум дождя стал слышнее, но одновременно до слуха Рабана донеслись также и голоса постояльцев – вероятно, одно из окон было открыто; тут он заколебался – что лучше: сразу выйти или подождать, пока хозяин подойдет к омнибусу. Как было принято поступать в этой глухомани, он не знал, но Бетти наверняка уже успела всем рассказать о своем женихе, и от того, каким он им предстанет – великолепным или жалким, – отношение к ней улучшится или ухудшится, а значит, и к нему самому тоже. Но он не знал ни того, как к ней сейчас относятся, ни того, что именно она о нем рассказывала; тем труднее и неприятнее! Как прекрасен мой город и как прекрасна дорога домой! Если там идет дождь, едешь домой по мокрым каменным плитам мостовой на трамвае, а здесь – в трактир в замызганной колымаге по непролазной грязи. «Мой город далеко отсюда, и умри я сейчас от тоски по дому, сегодня меня уже никто туда не доставит. Ну, я, конечно, не умру – но дома мне бы подали заказанное на нынешний вечер блюдо, справа от тарелки лежала бы газета, слева стояла бы лампа; а здесь мне дадут какую-нибудь ужасно жирную стряпню, – они же не знают, что у меня больной желудок, да хоть бы и знали… И газета будет не та, к которой я привык, и множество людей, чьи голоса я уже слышу, будут толпиться вокруг, и лампа будет на всех одна. Разве она даст достаточно света? Для игры в карты, может, его и хватит, а для чтения газеты?
Хозяин трактира не выходит встречать, ему плевать на гостей, он скорее всего вообще человек невоспитанный. Или же он знает, что я – жених Бетти, и считает это достаточным основанием, чтобы ради меня не утруждаться? Одно к одному – вот и кучер тоже заставил меня так долго ждать на станции. Ведь Бетти часто рассказывала, сколько ей пришлось вынести от похотливых мужчин и как ей приходилось отбиваться от их назойливых ухаживаний; может быть, и здесь то же самое…
Отказ
Когда, повстречав красивую девушку, я прошу ее: «Будь добра, пойдем со мной!» – а она молча проходит мимо, этим она как бы говорит: «Ты не герцог с победно-звонкой фамилией, не широкоплечий американец с осанкой индейца, с дивным разлетом твердо посаженных глаз, со смуглой кожей, омытой ветрами саванн и водами рек, бегущих к саваннам, ты не странствовал к Великим озерам и по ним, загадочным, бескрайним, раскинувшимся неведомо где. Так с какой стати, скажи на милость, мне, красивой девушке, с тобой идти?»
«Но ты забываешь – тебя тоже не катит по переулку плавно покачивающийся автомобиль, и что-то я не вижу втиснутых в ладные костюмы кавалеров твоей свиты, что, благоговейно осыпая тебя хвалами и почестями, следуют за своей госпожой строгим полукругом; твои груди аккуратно упрятаны под корсетом, но твои ноги и бедра с лихвой вознаграждают тело за эту вынужденную стесненность; на тебе платье из тафты с плиссировкой, какие, спору нет, весьма радовали нас еще прошлой осенью, но сейчас, в такой-то старомодной хламиде, чему ты улыбаешься?»
«Что ж, мы оба правы, и чтобы не убеждаться в этом окончательно и бесповоротно, не лучше ли отправиться домой каждому поодиночке – не так ли?»
Приговор
История для Ф.Б.
Это было воскресным утром, дивной весенней порой. Георг Бендеман, молодой коммерсант, сидел в своей комнате, во втором этаже одного из приземистых, наскоро построенных зданий, что вереницей протянулись вдоль реки, слегка отличаясь одно от другого разве лишь высотой и колером покраски. Он только что закончил письмо другу юности, обретавшемуся теперь за границей, с наигранной медлительностью заклеил конверт и, облокотившись на письменный стол, устремил взгляд за окно – на реку, мост и холмы на том берегу, подернувшиеся первой робкой зеленью.
Он размышлял о том, как его друг, недовольный ходом своих дел дома, несколько лет назад буквально сбежал в Россию. Теперь у него была своя торговля в Петербурге, заладившаяся поначалу очень даже споро, но уже давно идущая ни шатко ни валко, если верить сетованиям друга во время его наездов на родину, раз от разу все более редких. Так он и мыкался без всякого толку на чужбине, окладистая борода странно смотрелась на его столь близком, с детства знакомом лице, чья нездоровая желтизна наводила теперь на мысль о первых признаках подкрадывающейся болезни. Друг рассказывал, что с тамошней колонией земляков, по сути, не общается, ни с кем из местных семейств тоже знакомств не завел, так что окончательно и бесповоротно направил свою жизнь в холостяцкую колею.
О чем писать столь очевидно сбившемуся с пути человеку, которому впору посочувствовать, но помочь нечем? Допустим, посоветовать вернуться на родину, начать новую жизнь здесь, возобновив – к чему нет никаких препятствий – прежние отношения и положившись, среди прочего, на помощь друзей? Но это означало бы не что иное, как сказать ему – чем мягче и бережней, тем для него болезненней, – что все прежние его начинания пошли прахом и надо поставить на них крест, пойти на попятный, вернуться сюда, где все будут опасливо пялиться на него именно как на возвращенца, и только немногие друзья отнесутся к нему с пониманием, но и для них он навсегда останется лишь постаревшим ребенком, обреченным безропотно слушаться своих никуда не уезжавших приятелей, ибо те сумели преуспеть дома. Да и есть ли уверенность, что все мучения, которые невольно придется причинить другу подобным посланием, не окажутся напрасными? Удастся ли вообще стронуть его с места, вытащить домой – ведь он сам не раз говаривал, что жизни на родине давно не понимает, – и тогда он, вопреки всему, останется на чужбине, только без нужды ожесточенный непрошеными советами и еще чуть больше отдалившись от своих и без того далеких друзей. Если же он вдруг и в самом деле последует совету, но – и не просто по склонности натуры, а под гнетом обстоятельств – впадет здесь в нищету и уныние, не обретя себя ни с помощью приятелей, ни без них, страдая от стыда и унижений, теперь-то уж окончательно лишившись родины и друзей, – разве в таком случае не правильнее для него оставить все как есть и продолжать жить на чужбине? А учитывая все обстоятельства, возможно ли рассчитывать, что ему и впрямь удастся повернуть здесь свои дела к лучшему?
Исходя из всех этих соображений, получалось, что другу, если вообще поддерживать с ним переписку, ничего существенного, о чем без раздумий напишешь даже самым дальним знакомым, сообщать нельзя. Он уже больше трех лет не был на родине, крайне неубедительно объясняя свое отсутствие политическим положением в России, смутная ненадежность которого якобы исключает для мелкого предпринимателя возможность даже самой краткой отлучки, – и это во времена, когда сотни тысяч русских преспокойно разъезжают по всему свету. Между тем именно за эти три года в жизни Георга очень многое переменилось. О кончине матери, последовавшей около двух лет назад, после чего Георгу пришлось зажить одним хозяйством с престарелым отцом, друг, видимо, еще успел узнать и выразил соболезнование письмом, странная сухость которого объяснялась, вероятно, лишь тем, что вдали, на чужбине, воспроизвести в душе горечь подобной утраты совершенно невозможно. Георг, однако, после этого события гораздо решительнее взялся за ум и за семейное дело. То ли прежде, при жизни матери, по-настоящему самостоятельно развернуться ему мешал отец, ибо признавал в делах только одно мнение, свое собственное. То ли сам отец после смерти матери, хоть и продолжал работать, стал вести себя потише, то ли, и это даже очень вероятно, судьбе охотнее обычного пособил счастливый случай, – как бы там ни было, а за эти два года семейное дело, против всех ожиданий, резко пошло в гору. Штат служащих пришлось удвоить, оборот возрос впятеро, да и в грядущих успехах не приходилось сомневаться.
Друг, между тем, обо всех этих переменах понятия не имел. Прежде – в последний раз, кажется, в том самом письме с соболезнованиями – он все пытался уговорить Георга тоже перебраться на жительство в Россию, расписывая самые наилучшие виды, какие открываются в Петербурге именно в его, Георга, отрасли. А цифры при этом называл ничтожные в сравнении с объемами, которыми ворочает теперь Георг в своем магазине. Тогда Георгу не хотелось расписывать другу свои деловые успехи, а сейчас, задним числом, это тем более выглядело бы странно.
Вот он и ограничивался тем, что писал другу о всякой ерунде, какая без порядка и смысла всплывает в памяти в покойные воскресные часы. Хотелось одного: ни в коем случае не потревожить образ родного города, сложившийся в представлении друга за годы отсутствия, каковым представлением друг, похоже, и предпочитал довольствоваться. В итоге как-то само собой вышло, что о предстоящей помолвке совершенно безразличного ему знакомца со столь же безразличной ему барышней Георг с довольно большими промежутками уведомил друга уже в трех письмах, вследствие чего тот, что никак в намерения Георга не входило, оным курьезным пустяком даже весьма заинтересовался.
И все же Георг предпочитал писать о подобной чепухе, нежели признаться, что сам вот уже месяц как помолвлен – с мадемуазель Фридой Бранденфельд, девушкой из состоятельной семьи. Он, кстати, часто беседовал с невестой об этом своем друге и о странностях их переписки.
– Выходит, он даже на свадьбу не приедет? – удивлялась та. – Мне кажется, я вправе увидеть всех твоих друзей.
– Да не хочется его беспокоить, – отвечал Георг. – Пойми меня правильно, он наверняка приедет, по крайней мере мне хочется так думать, но приедет безо всякой охоты, будет чувствовать себя обделенным, а может, и завидовать мне, и, не в силах устранить саму причину огорчения, конечно же, будет огорчен, что снова возвращается домой один. Один – ты хоть понимаешь, что это значит?
– Но разве не может он прослышать о нашей свадьбе от кого-то еще?
– Что ж, предотвратить этого я не могу, однако при его образе жизни это маловероятно.
– При таких друзьях, Георг, тебе вовсе не стоило бы жениться.
– Да, это наша с тобой общая вина, но даже сейчас мне не хотелось бы ничего менять.
А немного погодя, когда она, прерывисто дыша под его поцелуями, произнесла: «И все-таки меня это задевает», – он подумал, что и вправду ничего обидного не совершит, если начистоту напишет другу все как есть.
«Ну да, я такой, пусть таким меня и принимает, не могу же я перекроить себя в другого человека, более способного к дружбе с ним, нежели я сам».
И действительно, в пространном письме, написанном в это воскресное утро, Георг уведомил друга о своей помолвке вот в каких словах: «А самое радостное известие я припас напоследок. Я заключил помолвку с одной барышней, мадемуазель Фридой Бранденфельд, девушкой из состоятельной семьи, которая поселилась в наших краях много позже твоего отъезда, так что вряд ли ты ее знаешь. Мне еще представится случай рассказать о своей невесте подробнее, сегодня тебе довольно услышать, что я весьма счастлив, а в наших с тобой отношениях переменится лишь одно: вместо самого заурядного друга у тебя теперь будет счастливый друг. Вдобавок и в моей невесте, которая на днях сама тебе напишет, а сейчас шлет сердечный привет, ты обретешь задушевную подругу, что для холостяка отнюдь не безделица. Я знаю, многое удерживает тебя от приезда в родные места. Но разве моя свадьба – не подходящий повод хоть однажды махнуть рукой на все препоны? Впрочем, как бы там ни было, ты волен поступать без церемоний, сугубо по своему усмотрению».
С этим-то письмом в руках Георг и замер в долгом раздумье за письменным столом, устремив взор за окно. Знакомому, который, проходя внизу по улице, с ним поздоровался, он едва ответил отрешенной улыбкой.
Наконец, сунув письмо в карман, он вышел из комнаты и наискосок по коридорчику направился в комнату к отцу, куда не заглядывал уже несколько месяцев. Особой нужды туда заглядывать не было, ведь они с отцом постоянно виделись в магазине. И обедали в одно и то же время в одном трактире, хотя ужинали порознь, по своему хотению и вкусу, но после еще какое-то время сиживали вместе в общей гостиной, каждый за своей газетой, если только Георг, как это чаще всего и бывало, не проводил вечер с друзьями или, как намечалось нынче, в гостях у невесты.
Георг удивился, до чего темно в отцовской комнате даже таким солнечным утром. Вот, значит, как застит свет высоченная стена, нависающая над их узким двориком. Отец сидел у окна в углу, где были собраны и развешены вещицы и фотографии в память о покойной матери, и читал газету, причем держал ее перед собой не прямо, а вкось, подлаживаясь глазами к какой-то старческой немощи зрения. На столе Георг разглядел остатки завтрака; судя по их виду, поел отец без всякого аппетита.
– А-а, Георг, – встрепенулся отец и тотчас направился ему навстречу.
На ходу его тяжелый халат распахнулся, полы резко разошлись в стороны. «Отец у меня все еще богатырь», – успел подумать Георг.
– Здесь же темень несусветная, – вымолвил он чуть позже.
– Верно, темень, – отозвался отец.
– А у тебя еще и окно закрыто?
– Мне так лучше.
– На улице-то совсем тепло, – как бы в подкрепление сказанному заметил Георг, присаживаясь.
Отец принялся убирать со стола посуду, переставляя ее на комод.
– Я только хотел сказать тебе, – продолжал Георг, рассеянно, но неотрывно следя за стариковскими движениями отца, – что все-таки написал в Петербург о своей помолвке.
Он на секунду за самый краешек извлек конверт из кармана и тут же уронил его обратно.
– В Петербург? – переспросил отец.
– Ну да, моему другу, – пояснил Георг, стараясь перехватить отцовский взгляд. «В магазине-то он совсем не такой, – пронеслось у него в голове. – Вон как расселся, вон как руки на груди скрестил».
– Ну да. Твоему другу, – повторил отец со значением.
– Ты же знаешь, отец, сперва я хотел эту новость от него утаить. По одной только причине: щадил его чувства. Сам знаешь, человек он тяжелый. Вот я и сказал себе: если он прослышит о моей свадьбе от кого-то еще, что при его замкнутом образе жизни маловероятно, тут уж ничего не поделаешь, но сам я покамест ничего сообщать ему не стану.
– А теперь, значит, опять передумал? – проговорил отец, откладывая на подоконник пухлую газету, а на газету очки, которые для верности прикрыл ладонью.
– Да, теперь опять передумал. Я сказал себе: если он мне настоящий друг, то счастье моей помолвки и для него будет счастьем. А коли так, самое время обо всем ему сообщить без околичностей. Только вот, прежде чем письмо отправить, тебе зашел сказать.
– Георг, – проговорил отец, странно распяливая беззубый рот, – послушай-ка меня. Ты зашел по делу, зашел посоветоваться. Что, несомненно, делает тебе честь. Только это пшик и даже хуже, чем пшик, если ты, придя посоветоваться, не говоришь мне всей правды. Не стану касаться вещей, которые к делу не относятся. Хотя после смерти нашей незабвенной, дорогой матери кое-какие некрасивые вещи имели место. Может, еще придет время обсудить и их, причем скорее, чем мы думаем. Я стал кое-что упускать в делах, а может, от меня кое-что и скрывают – хотя сейчас мне не хотелось бы думать, что от меня что-то скрывают, – у меня уже и силы не те, и память не та. Столько дел – я не могу, как раньше, все удержать в голове. Во-первых, годы, с природой не поспоришь, а во?вторых, смерть нашей матушки потрясла меня куда сильнее, чем тебя. Но коль скоро мы обсуждаем это дело, говорим об этом письме, прошу тебя, Георг, не надо меня обманывать. Это ведь мелочь, она не стоит и вздоха, поэтому не обманывай меня. Разве у тебя и вправду есть друг в Петербурге? От растерянности Георг встал.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: