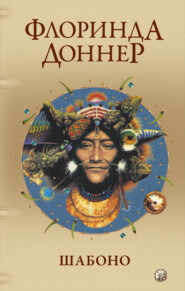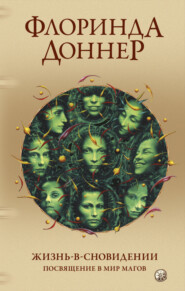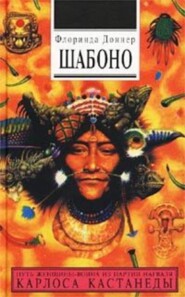По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сон ведьмы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Виктор Джулио отступил назад. Размахивая своей тростью, он вслепую колотил насмешливых юнцов, – оставьте меня в покое! – закричал он дрожащими губами.
На мгновение напуганные его яростью, юноши притихли. Вдруг, словно только что заметив, что Виктор Джулио не один, они повернулись к Октавио.
– Кто ты? – кричал один из мальчишек, переводя взгляд от одного мужчины к другому, возможно оценивая результаты их обоюдного сговора, – ты со стариком? Ты его помощник?
Октавио не ответил. Взмахнув верёвкой над своей головой, он защёлкал ею перед собой, как хлыстом. Смеясь и вскрикивая, ребята пытались уклониться от прицельных ударов. Но когда некоторым из них верёвка обожгла не только икры и бёдра, но плечи и руки, они отступили назад. Они ринулись за Виктором Джулио, который тем временем убегал к ущелью, где ещё догорали собаки.
Старик оглянулся. От ужаса у него расширились зрачки, мальчишки были почти за его спиной. Они не казались ему людьми; они напоминали ему свору лающих псов. Он попробовал бежать быстрее, но жгучая боль в груди тормозила движения.
Мальчишки, поднимая гальку, бросали её в него, просто подшучивая над ним. Но когда сын Лебанесы потянулся за большим камнем, остальные ребята постарались превзойти друг друга – в ход пошли большие осколки породы.
Один из них попал Виктору Джулио в голову. Он зашатался. Глаза его ничего не видели, земля уплывала из-под ног. Старик покачнулся и свалился с обрыва.
Ветер донёс из ущелья сдавленный крик. Запыхавшись, с лицами в полоску от пыли и пота, мальчики стояли, глядя друг на друга. Затем, словно по какому-то сигналу, они бросились в разные стороны.
Октавио сбежал вниз по крутому склону и опустился на колени перед неподвижным телом Виктора Джулио. Он сильно встряхнул его. Старик открыл глаза. Дыхание слабеющими вспышками выходило из него. Голос был слабым, приглушённым звуком, – я знал, что конец близок, но думал, что это конец моей работы. Мне и в голову не приходило, что всё закончится таким образом, – его зрачки блеснули странно яркими красками. Он пристально взглянул в глаза своего помощника. Жизнь ушла.
Октавио безумно встряхнул его, – Иисус! Он мёртв! – Октавио перекрестился и поднял своё вспотевшее лицо к небу. Несмотря на ослепительное сияние солнца, бледная луна была отчётливо различима. Он хотел помолиться, но не мог вспомнить ни одной молитвы. Единственный образ засел в его мысли – множество собак преследовало старика по полям.
Октавио почувствовал в своих руках нарастающий холод, его тело начала бить дрожь. Можно снова убежать в другой город, подумал он. Но тогда они заподозрят его в убийстве Виктора Джулио. Лучше оставаться некоторое время в городе, пока всё не прояснится, решил он.
Октавио наблюдал за мертвецом. Затем, поддавшись порыву, он поднял трость Виктора Джулио, лежавшую рядом. Он погладил её и потёр прекрасно вырезанный набалдашник о свою левую щёку. Он почувствовал, что она всегда принадлежала ему. Стало интересно, сможет ли он когда-нибудь воспроизвести танец трости.
7
Октавио Канту закончил свой последний сеанс лечения. Он взял свою шляпу и встал со стула. Я заметила, как сильно годы сдавили ему грудь и ослабили мышцы его рук. Облинявший пиджак и брюки на нём были на несколько размеров больше. Карман на правой стороне резко выпирал от большой бутылки рома.
– Вот так всегда, когда она заканчивает моё лечение, сон куда-то прячется, – прошептал он мне, продолжая смотреть своими ввалившимися бесцветными глазами на Мерседес Перальту, – сегодня я заболтался с тобой.
Никак не могу понять, почему ты так интересуешься мной.
Широкая улыбка разгладила его лицо, когда он поместил свою походную трость между большим пальцем и запястьем. Его рука замелькала взад и вперёд с таким поразительным мастерством, что трость, казалось, подвесили в воздухе. Ни слова не говоря, он вышел из комнаты.
– Донья Мерседес, – тихо вскрикнула я, поворачиваясь к ней, – ты не спишь?
Мерседес Перальта кивнула, – я бодрствую. Я всегда бодрствую, даже когда сплю, – мягко сказала она, – это способ, которым я пытаюсь сдерживать свои прыжки вперёд себя.
Я сказала ей, что с тех пор, как я начала беседовать с Октавио Канту, меня постоянно мучают изводящие вопросы. Мог ли Октавио Канту как-то уклониться и не вставать на место Виктора Джулио? И почему он в такой полной мере повторяет жизнь Виктора Джулио?
– Это неопровержимые вопросы, – ответила донья Мерседес, – но лучше пойдём на кухню и спросим об этом Канделярию. У неё побольше ума, чем у нас обоих вместе. Я слишком стара, чтобы быть умной, а ты слишком образована.
С сияющей улыбкой она взяла меня за руку, и мы пошли на кухню.
Канделярия, занятая тем, что скребла днища медных тарелок и горшков, не слышала и не видела нашего прихода. Когда донья Мерседес подтолкнула её, она издала пронзительный и испуганный вопль.
Канделярия была высокой, с покатыми плечами и широкими бёдрами. Я не могла определить её возраст. Она иногда выглядела на тридцать, а иногда на пятьдесят. Её загорелое лицо было покрыто крошечными веснушками, расположенными так равномерно, что они казались нарисованными. Она выкрасила свои тёмные вьющиеся волосы в морковно-красный цвет и одела платье, сделанное из броско разрисованного ситца.
– Как? Что тебе надо в моей кухне? – спросила она с притворным раздражением.
– Музия одержима мыслями об Октавио Канту, – объяснила донья Мерседес.
– Бог мой! – вскричала Канделярия. Когда она посмотрела на меня, её лицо выражало искреннее потрясение, – но почему о нём? – спросила она.
Озадаченная её обвиняющим тоном, я повторила вопросы, которые только что задала донье Мерседес.
Канделярия засмеялась, – а я уж было забеспокоилась, – сказала она донье Мерседес, – музии такие странные. Я вспомнила ту Музию из Финляндии, которая пила стакан мочи после обеда для того, чтобы сбросить вес. А женщина, которая приехала из Норвегии, чтобы ловить рыбу в Карибском море?
Как я знаю, она так ничего и не поймала. Из-за неё перессорился весь экипаж судна. Тоже мне, взяли в море на свою голову.
Весело смеясь, обе женщины присели, – никто не знает, что у Музий в голове, – продолжала Канделярия, – они способны на всё, – она вновь захохотала, ещё громче, чем прежде, а затем опять принялась скрести свои горшки.
– По-видимому, Канделярию очень мало заинтересовали твои вопросы, – сказала донья Мерседес, – я лично думаю, что Октавио Канту не мог избежать того, чтобы стать на место Виктора Джулио. У него было очень мало силы; вот почему он был схвачен тем, что таинственнее всего, о чём ты можешь сказать: это что-то более таинственное, чем судьба. Ведьмы называют это тенью ведьмы.
– Октавио Канту был очень молод и крепок, – внезапно заговорила Канделярия, – но он слишком долго просидел в тени Виктора Джулио.
– О чём она говорит? – спросила я донью Мерседес.
– Когда люди угасают, особенно в момент их смерти, они связывают это таинственное нечто с другими людьми. Образуется непрерывная цепь, – объясняла донья Мерседес, – вот почему дети похожи на своих родителей. И те, кто присматривают за старыми людьми, следуют по пятам за своими подопечными.
Канделярия заговорила снова, – октавио Канту слишком долго просидел в тени Виктора Джулио. И тень истощила его силы. Виктор Джулио был слаб, но, окрашенная им, его тень была очень сильной.
– Ты называешь тенью душу? – спросила я Канделярию.
– Нет, тень – это то, что имеют все люди, нечто более сильное, чем их души, – ответила она. По-видимому, мои вопросы ей надоели.
– Вот так, Музия, – сказала донья Мерседес, – октавио Канту слишком долго сидел на звене цепи – точке, где судьба связывает жизни вместе. У него не было сил уйти от этого. И, как сказала Канделярия, тень Виктора Джулио истощила его силы. Поэтому каждый из нас имеет тень, сильную или слабую. Мы можем передать эту тень тому, кого любили, тому, кого ненавидели, или тому, кто просто оказался под рукой. Если мы не отдаём её никому, она расползается вокруг после нашей смерти до тех пор, пока не исчезнет.
Я смотрела на неё, ничего не понимая. Она засмеялась и сказала: – я говорила тебе, что мне нравится быть ведьмой. Мне нравится способ, которым ведьмы объясняют события, даже сознавая то, что им трудно понять его.
Октавио нуждается во мне. Я облегчаю его бремя с помощью своих заклинаний. Он чувствует, что без моего вмешательства он повторит жизнь Виктора Джулио точь-в-точь.
Часть вторая
8
Я ожидала громких стуков и скрипов, которые оглашали по утрам весь дом каждый четверг, когда Канделярия начинала переставлять тяжёлую мебель в гостиной. Шума не было и, подумав, уж не снится ли мне это во сне, я пошла по тёмному коридору в её комнату.
Лучи солнечного света проникали сквозь щели в деревянных ставнях, открывающих два окна на улицу. Обеденный стол с шестью стульями, чёрный диван, обитое кресло, зеркальный кофейный столик и даже вставленные в рамы эстампы пасторальных ландшафтов и сцен корриды – всё было на тех местах, куда их расставила Канделярия в прошлый четверг.
Я вышла во двор, где за кустами заметила Канделярию. Её жёсткие, курчавые, выкрашенные в красный цвет волосы были причёсаны и украшены красивыми гребнями. Мерцающие зелёные кольца болтались в мочках ушей. Губы и ногти отливали глянцем и соответствовали цвету её яркого ситцевого платья. Глаза почти скрывали веки. Это придавало ей мечтательный вид, который, однако, расходился с её угловатыми чертами и решительными, почти резкими манерами.
– Зачем ты так рано поднялась, Музия? – спросила Канделярия.
Поднявшись, она поправила свою широкую юбку и низкий лиф, который открывал её пышную грудь.
– Я не услышала, как ты двигаешь мебель, – сказала я, – может, ты забыла?
Не ответив, она заторопилась на кухню; её свободные сандалии засверкали пятками, словно она бежала стометровку, – я сегодня ни с чем не справляюсь, – заявила она, остановившись на миг, чтобы всунуть ногу в свалившуюся сандалию.