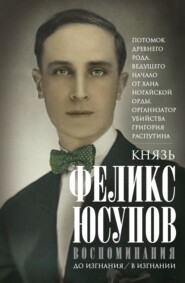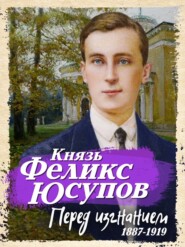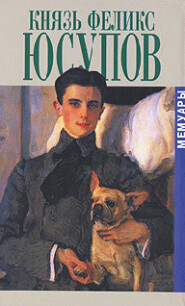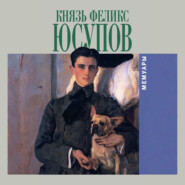По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мемуары
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А что до вопроса, откуда берутся дети, тут я тоже долго не гадал. Решил, что, к примеру, несомое курицей яйцо – петушиная частица. Она отпадает от петуха и становится новым петухом, и так же происходит и у людей. Сей любопытный вывод сделал я, заметив некоторое различие у мужских и женских статуй, а также внимательно рассмотрев собственные анатомические особенности.
Этим представлением я и довольствовался, пока не предстала мне однажды грубая действительность. Произошло это в результате случайной встречи в Контрексевиле, где матушка проходила курс лечения. Было мне тогда лет двенадцать.
В тот вечер я вышел после ужина на прогулку в парк. Идучи мимо ручья, в окнах беседки увидел я, как смуглый юноша прижимает к себе хорошенькую девицу. По всему, получали они сильное удовольствие. Непонятное чувство овладело мной. Я подошел, чтобы исподтишка рассмотреть.
Вернувшись, я рассказал матушке о том, что увидел. Она смутилась и поспешила заговорить о другом.
В ту ночь я не мог заснуть. Эта сцена стояла у меня перед глазами. Назавтра в тот же час я вернулся к беседке – никого. Я хотел было уйти, но заметил на аллее того смуглолицего типа. Он направлялся в беседку. Я подошел и прямо спросил, не свиданье ли у него с той барышней. Сначала он посмотрел с удивленьем, но потом засмеялся и осведомился, что мне за дело. Я объяснил, что видел их накануне, и он сказал, что свиданье у него с барышней позже, у него в номере, и пригласил меня прийти. Судите сами, как взволновался я.
Дома все устроилось мне на руку. Матушка, устав, легла рано, отец ушел играть в карты с приятелями. Гостиница, куда я был зван, – рядом. Смуглолицый ждал меня, сидя на ступеньках. Он похвалил меня за точность и увел в номер. Когда явилась барышня, я уже знал, что он – аргентинец.
Не помню, сколько я пробыл у них. Вернувшись к себе, я не раздеваясь бросился на постель и заснул как убитый. В тот вечер вдруг разъяснилось для меня все. За два-три часа наивное и невинное дитя приобщилось ко взрослым тайнам. А что до самого аргентинца, приобщившего меня, он исчез на другой день, и никогда более я не встречал его.
Поначалу я хотел во всем признаться матушке, однако не решился от стыда и от страха. Отношения между мужчиной и женщиной так поразили меня еще и потому, что прежде я ни о чем таком и думать не думал. Теперь же, благодаря откровениям аргентинца, я представлял себе знакомых господ и дам в самых немыслимых положеньях. Неужели они все ведут себя так? От этих диких картин моя детская голова пошла кругом. Вскоре я рассказал об этом брату, но тот, к моему удивленью, выслушал все равнодушно. Тогда я замкнулся в себе и ни с кем более об этом не заговаривал.
В 1900 году наша семья поехала в Париж на Всемирную выставку. Выставку помню очень смутно. Таскали меня на солнцепеке с утра до вечера по скучным павильонам. Я устал и выставку возненавидел. Однажды днем, когда особенно изнемог, я заметил неподалеку пожарную кишку. Я схватил ее и направил на толпу, усердно поливая всякого, кто хотел ко мне подойти. Народ закричал, поднялась суматоха, даже паника. Прибежали полицейские. Они вырвали у меня кишку и препроводили и меня, и семейство мое в участок. После долгих споров удалось убедить блюстителей порядка, что у меня легкое помраченье рассудка, исключительно от жары, и нас отпустили, заставив, однако, уплатить штраф. В наказанье родители запретили мне ходить на выставку, не зная, что их наказанье мне – великая награда. После этого я разгуливал по Парижу в свое удовольствие, заходил в бары и знакомился с кем ни попадя. Когда же я привел новых знакомцев к нам в отель, родители ужаснулись и впредь запретили мне гулять одному.
А вот Версаль и Трианон поразили меня. Историю Людовика ХVI и Марии-Антуанетты знал я очень приблизительно. Когда же узнал я во всех подробностях об их трагическом конце, я буквально устроил культ обоим мученикам. Повесил у себя в комнате их портреты и всякий день ставил перед портретами свежие цветы.
Когда отец с матерью отправлялись за границу, с ними непременно ехал кто-нибудь из друзей. На этот раз с нами поехал генерал Бернов, которого все звали неизвестно почему «тетя Вотя». Толстый и некрасивый, с предлинными усами, которыми гордился, он был похож на тюленя. А на деле – добряк, чистый генерал Дуракин. Подчинялся всем отцовым прихотям, а отец без него не мог ни минуты. Было у генерала любимое выраженье «ну-ка стой», какое в разговоре вставлял он дело не по делу. Притом никто не знал, к чему именно оно относится. Эта его присказка сослужила ему однажды плохую службу. Как-то на параде вел он гвардейский полк и перед царской трибуной должен был погнать галопом и с саблями наголо. Отдавая приказ «В галоп!», он крикнул свое «ну-ка, стой!» и помчал во весь опор, не заметив, что гвардейцы его, остановленные странной командой, не стронулись с места.
Русские офицеры всегда, даже не находясь на службе, носили военный мундир. К штатскому платью они не привыкли и выглядели в нем странно, а порой сомнительно. Вот почему отец со своим приятелем-генералом вызвали подозренье у ювелира Бушрона, когда принесли ему в починку матушкины украшения. Завидев бесценные брильянты в руках двух подозрительных субъектов, ювелир поспешил предупредить полицию. Ошибку свою он признал тогда лишь, когда предъявили они бумаги, удостоверявшие личность. Тут уж ювелир рассыпался в извинениях.
Однажды мы с матушкою оказались на рю де ля Пэ и встретили торговца собаками. Рыжий песик с черной мордочкой по кличке Наполеон так мне понравился, что я стал упрашивать матушку купить его. Матушка, к моей радости, согласилась. А вот собачью кличку я счел кощунственной и переименовал его в Клоуна.
Восемнадцать лет Клоун не расставался со мной, был мне верным товарищем. Очень скоро он стал знаменит. Все, от членов императорской фамилии до последнего нашего холопа, знали и любили его. Он был как уличный парижский мальчишка, любил пофрантить и принимал важный вид перед фотографами. Обожал конфеты и шампанское. Когда пьянел, становился уморительным. А если у него пучило живот, он подходил к камину и совал туда зад с виноватым видом, точно прося прощенья.
У Клоуна были свои симпатии, а также свои антипатии, совершенно неодолимые. Не любил – непременно задирал ногу на брюки или юбку врага. К примеру, так возненавидел одну матушкину приятельницу, что пришлось его запирать, когда та приходила к нам. Однажды она явилась в восхитительном вортовском платье розового бархата. К несчастью, Клоуна запереть забыли. Едва приятельница вошла, он бросился к ней и облил ей весь подол. С дамой случилась истерика.
Клоун мог бы выступать в цирке. В жокейском костюмчике он забирался на пони и с трубкой в зубах изображал курильщика. Был он и охотником неплохим и приносил дичь как настоящая охотничья собака.
Однажды заехал к матушке обер-прокурор Святейшего синода и, на мой взгляд, слишком засиделся. Решил я действовать при помощи Клоуна. Густо набелил и нарумянил его, как старую кокотку, напялил на него парик и платье и выпустил в таком виде в гостиную. Клоун понял, чего от него ждут, и вызывающе, на задних лапках, прошел к гостю. Тот, скандализованный, немедленно удалился. Мне только того и надо было.
С Клоуном мы не разлучались. Он ходил за мной всюду, а ночью спал рядом на подушке. Когда Серов писал мой портрет, то просил, чтоб и Клоун сидел при мне непременно: говорил, это лучшая его модель.
Прожив восемнадцать лет, Клоун умер, и я похоронил его в саду нашего дома на Мойке.
Великий князь Михаил Николаевич и сын его великий князь Алексей каждое лето приезжали на несколько дней погостить в Архангельское. Великий князь Михаил был последним сыном императора Николая I. Он участвовал в Крымской, Кавказской и Турецкой войнах и двадцать два года оставался императорским наместником на Кавказе, а по возвращении получил пост главного инспектора артиллерии и должность председателя Государственного совета.
В детстве моем великий князь Алексей, старше меня на десять лет, непременно привозил мне игрушки. Помню, в частности, надувного Арлекина – в надутом виде вдвое больше меня. Очень я ему обрадовался. Однако радость была недолговечна: белка Типти очень скоро в клочки растерзала его.
Великий князь Михаил любил смотреть, как мы с братом играем в теннис. Усевшись в глубокое кресло, мог часами наблюдать за игрой. Игроком я был никудышным, мячи посылал во все стороны и однажды угодил великому князю в глаз. Удар оказался столь сильным, что пришлось вызвать окулиста, московскую знаменитость, дабы великий князь сохранил глаз.
Оплошность подобного рода я совершил еще раз в Павловске, в летнем доме великого князя Константина Константиновича. Там же находились сестра его, греческая королева Ольга, и мать, великая княгиня Александра Осиповна, почтенная пожилая особа, которую в кресле на колесах катали по саду. Все ее очень почитали. Когда ее этак вывозили в сопровожденье родных, казалось, движется шествие с церковным пастырем во главе.
Однажды каталку с великой княгиней вывезли из дворца, когда младший сын королевы Ольги, принц Христофор, и я играли в мяч на дворцовой лужайке. С обычной своей неловкостью я сильно ударил по мячу. Мяч полетел в сторону кресла и попал почтенной даме прямо в лицо.
В Петербурге великий князь Константин жил в Мраморном дворце – роскошном здании из серого мрамора, построенном Екатериной II для фаворита своего графа Орлова. Я хаживал туда играть с великокняжескими детьми. Однажды вздумалось им поиграть в похороны президента Феликса Фора, моего тезки. Всю игру я усердно изображал покойника. Однако, не успели меня вытащить из «могилы», я, разозленный, наставил своим «могильщикам» фонарей под глазом. С тех пор ни в Мраморный дворец, ни в Павловск меня не звали.
До пятнадцати лет я страдал лунатизмом. Как-то ночью в Архангельском я очнулся верхом на балюстраде одного из балконов. Разбудил меня, видимо, птичий крик. Увидав, что внизу пропасть, я до смерти перепугался. На мой крик прибежал лакей и выручил меня. Я был так благодарен ему, что упросил родителей дать мне его в услуженье. С тех пор Иван находился при мне неотлучно, и я считал его скорее другом, нежели слугой. Оставался он со мной вплоть до 17-го года. Когда стряслась революция, он был в отпуске. Обратно доехать до меня ему не удалось, и я навсегда потерял его след.
В 1902 году отец с матерью отправили меня в путешествие по Италии со старым преподавателем искусства Адрианом Праховым. Шутовской вид старика учителя тотчас бросался в глаза. Коротенький и большеголовый, с шапкой волос и рыжей бородой, он походил на клоуна. Мы решили звать друг друга «дон Адриано» и «дон Феличе». Начали вояж мы в Венеции, кончили Сицилией. Учитель научил меня, однако, не совсем тому, чему должен был.
Я изнемогал от жары, и художественные красоты Италии созерцал неохотно. Зато дон Адриано бегал по церквам и музеям неутомимо и весело. Часами простаивал у картин и каждому встречному-поперечному рассказывал о них по-французски с чудовищным акцентом. Туристы, пораженные его эрудицией, ходили за нами толпами. Что до меня, я терпеть не мог коллективного обученья и проклинал этих потных субъектов с фотографическими аппаратами, постоянных наших преследователей.
Одевался дон Адриано очень, по его мнению, подходяще к тамошнему климату: носил белый шелковый костюм, соломенную шляпу и зонтик на ярко-зеленой подкладке. По улице за нами вечно бежали мальчишки. Как ни мал я был, а понял, что не с ним бы плавать в венецейской гондоле.
Прибыв в Неаполь, мы сняли номер в гостинице «Везувий». Жарко было нестерпимо, и до вечера я и носа на улицу не казал. Учитель целыми днями бегал по своим неаполитанским знакомым, коих имел много, а я скучал в гостинице. На закате, когда жара спадала, я выходил на балкон и смотрел на прохожих. Иногда заговаривал с кем-нибудь, но по-итальянски говорил через пень-колоду, и беседы не получалось. Однажды у гостиницы остановился фиакр. Из него вышли две дамы. Кучер был славный на вид юноша, к тому ж понимал по-французски. Я признался ему, что скучаю в Неаполе, что хочу погулять по городу ночью. Он вызвался быть моим провожатым в тот же вечер и обещал заехать за мной в одиннадцать. В это время учитель мой уже засыпал. Приехал кучер точно, как обещал. Я на цыпочках вышел из номера и, ничуть не заботясь, что иду без гроша, уселся в фиакр. Мы поехали. Миновав несколько безлюдных улочек, итальянец остановился у какой-то двери, впотьмах. Войдя в дом, я поразился: с потолка свисают на веревках чучела животных, в том числе огромный крокодил. На миг мне почудилось, что я в зоологическом музее. Но понял, что это не музей, когда увидел накрашенную толстуху в фальшивых брильянтах. В гостиной, куда толстуха провела нас, стояли красные плюшевые диваны и сплошь зеркала. Я оробел, но вожатый мой, ничуть не смущаясь, потребовал шампанского и сел подле меня. Хозяйка заведения устроилась тут же. Мимо прохаживались красотки. Пахло потом и дешевыми духами. Красавицы были всех мастей, даже чернокожие. Иные в чем мать родила. Иные одеты как баядерки. Кто-то в матроске, кто-то в детском платьице. Они прохаживались, вихляя бедрами и кокетливо поглядывая на меня. Я совсем смутился, даже испугался. Кучер с хозяйкой то и дело прикладывались к бутылке. Я тоже стал пить. Они чмокали меня, говоря: «Ке белло бамбино!»
Вдруг открылась дверь, и я обомлел: на пороге стоял мой старик учитель. Хозяйка бросилась навстречу и обняла как завсегдатая, своего человека. Я было спрятался за кучерову спину, но дон Адриано уже заметил меня. Радостно улыбаясь, он сжал меня в объятьях с воплем «Дон Феличе! Дон Феличе!». Все смотрели онемев. Первый опомнился кучер. Он наполнил бокал шампанским, крикнул: «Ура, ура!», и все подхватили крик.
Уж не помню, когда все это кончилось, однако проснулся я на другой день с сильнейшей головной болью. Более в гостинице я один не сидел. После полудня, когда жара слабела, мы шли с учителем по музеям, а вечером начинали ночную гульбу с ним же и моим приятелем-кучером.
Однажды прогуливался я по набережной, любуясь морем и Везувием. Какой-то нищий схватил меня за руку, показал пальцем на вулкан и шепнул мне с таинственным видом: «Это Везувий». Видимо сочтя, что продал ценное сведенье, он попросил денег. Расчет его был неплох. Я оплатил щедро – не сведенье его, а нахальство, развеселившее меня.
Из Неаполя поехали мы на Сицилию осмотреть Палермо, Таормину и Катанию. Жара была нестерпимой, а на макушке Этны лежал снег. Я, мечтая о прохладе, предложил учителю подняться к вершине. Дону Адриано не хотелось, но я уговорил его, и мы отправились, взяв ослов и проводников. Поднимались долго. Когда добрались до кратера, старик валился с ног от усталости. Только мы спешились, чтобы насладиться видами, как земля стала накаляться и местами выпускать пар. Мы перепугались, вскочили на ослов и пустились вниз. Но проводники наши засмеялись, позвали нас назад и сказали, что явленье это обычное и бояться нечего. Ночь мы провели в укрытии и от холода не могли сомкнуть глаз. Наутро мы поняли, что все же пар костей не ломит, и решили немедленно вернуться в Катанию. На обратном пути чуть было не вышло трагедии. На тропинке вдоль кратера учителев осел оступился и скинул всадника. Тот полетел в пропасть. К счастью, он успел уцепиться за скалу, пока проводники бежали на выручку. Когда его вытащили, он был ни жив ни мертв со страху.
Перед тем как вернуться в Россию, несколько дней мы провели в Риме. Безумно жалею, что так дурно распорядился своим итальянским временем. Венеция и Флоренция необычайно впечатляли меня, но мал я еще был ценить красоту. В воспоминаньях о моей первой Италии художества – совсем иные!
Глава 6
В 1903 году преподобный Серафим Саровский, почивший в Саровской пустыни тому лет семьдесят, был причислен к лику святых. Царь Николай вместе со всей императорской семьей присутствовал на церемонии обретения мощей и канонизации преподобного Серафима.
Хотя история сего святого не связана ни со мной, ни с семейством моим, хочу рассказать ее, ибо в моем детстве она не прошла бесследно, к тому ж о канонизации этой много говорилось в дни моего шестнадцатилетия.
Старец родился в 1759 году в Курске в семье купца Мошнина. Родители его были честны и набожны. Сам Серафим с детства также отличался благочестием, часами молился перед иконами.
Однажды, взойдя с матерью на недостроенную колокольню, он упал с башни и, пролетев пятьдесят метров, рухнул на землю. Мать сбежала вниз вне себя от горя, считая его уже мертвым. Каковы же были ее изумленье и радость, когда она увидела его стоящим на ногах, целым и невредимым. Весть тотчас облетела город, и в дом к Мошниным повалил народ. Все желали видеть чудо-дитя. Впоследствии ему не однажды еще грозила смертельная опасность, но чудесным образом всякий раз бывал он спасен.
Восемнадцати лет вступил он в Саровскую обитель. С годами, однако, монастырская жизнь показалась ему суровою недостаточно, и он удалился в пустынь. Пятнадцать лет он жил отшельником в посту и молитвах. Тамошние жители приносили ему еду, но все почти он скармливал птицам и зверям, с коими был дружен. Игуменья из соседней обители, когда зашла к нему, обмерла от страху, увидав на пороге лежащего медведя. Старец заверил ее, что зверь безобидный, что ему, старцу, он друг и всякий день приносит из лесу мед. Чтобы окончательно успокоить мать-настоятельницу, он послал медведя за медом. Медведь пошел и вскоре вернулся, неся в лапах медовые соты. Серафим вручил их изумленной матушке.
Этим представлением я и довольствовался, пока не предстала мне однажды грубая действительность. Произошло это в результате случайной встречи в Контрексевиле, где матушка проходила курс лечения. Было мне тогда лет двенадцать.
В тот вечер я вышел после ужина на прогулку в парк. Идучи мимо ручья, в окнах беседки увидел я, как смуглый юноша прижимает к себе хорошенькую девицу. По всему, получали они сильное удовольствие. Непонятное чувство овладело мной. Я подошел, чтобы исподтишка рассмотреть.
Вернувшись, я рассказал матушке о том, что увидел. Она смутилась и поспешила заговорить о другом.
В ту ночь я не мог заснуть. Эта сцена стояла у меня перед глазами. Назавтра в тот же час я вернулся к беседке – никого. Я хотел было уйти, но заметил на аллее того смуглолицего типа. Он направлялся в беседку. Я подошел и прямо спросил, не свиданье ли у него с той барышней. Сначала он посмотрел с удивленьем, но потом засмеялся и осведомился, что мне за дело. Я объяснил, что видел их накануне, и он сказал, что свиданье у него с барышней позже, у него в номере, и пригласил меня прийти. Судите сами, как взволновался я.
Дома все устроилось мне на руку. Матушка, устав, легла рано, отец ушел играть в карты с приятелями. Гостиница, куда я был зван, – рядом. Смуглолицый ждал меня, сидя на ступеньках. Он похвалил меня за точность и увел в номер. Когда явилась барышня, я уже знал, что он – аргентинец.
Не помню, сколько я пробыл у них. Вернувшись к себе, я не раздеваясь бросился на постель и заснул как убитый. В тот вечер вдруг разъяснилось для меня все. За два-три часа наивное и невинное дитя приобщилось ко взрослым тайнам. А что до самого аргентинца, приобщившего меня, он исчез на другой день, и никогда более я не встречал его.
Поначалу я хотел во всем признаться матушке, однако не решился от стыда и от страха. Отношения между мужчиной и женщиной так поразили меня еще и потому, что прежде я ни о чем таком и думать не думал. Теперь же, благодаря откровениям аргентинца, я представлял себе знакомых господ и дам в самых немыслимых положеньях. Неужели они все ведут себя так? От этих диких картин моя детская голова пошла кругом. Вскоре я рассказал об этом брату, но тот, к моему удивленью, выслушал все равнодушно. Тогда я замкнулся в себе и ни с кем более об этом не заговаривал.
В 1900 году наша семья поехала в Париж на Всемирную выставку. Выставку помню очень смутно. Таскали меня на солнцепеке с утра до вечера по скучным павильонам. Я устал и выставку возненавидел. Однажды днем, когда особенно изнемог, я заметил неподалеку пожарную кишку. Я схватил ее и направил на толпу, усердно поливая всякого, кто хотел ко мне подойти. Народ закричал, поднялась суматоха, даже паника. Прибежали полицейские. Они вырвали у меня кишку и препроводили и меня, и семейство мое в участок. После долгих споров удалось убедить блюстителей порядка, что у меня легкое помраченье рассудка, исключительно от жары, и нас отпустили, заставив, однако, уплатить штраф. В наказанье родители запретили мне ходить на выставку, не зная, что их наказанье мне – великая награда. После этого я разгуливал по Парижу в свое удовольствие, заходил в бары и знакомился с кем ни попадя. Когда же я привел новых знакомцев к нам в отель, родители ужаснулись и впредь запретили мне гулять одному.
А вот Версаль и Трианон поразили меня. Историю Людовика ХVI и Марии-Антуанетты знал я очень приблизительно. Когда же узнал я во всех подробностях об их трагическом конце, я буквально устроил культ обоим мученикам. Повесил у себя в комнате их портреты и всякий день ставил перед портретами свежие цветы.
Когда отец с матерью отправлялись за границу, с ними непременно ехал кто-нибудь из друзей. На этот раз с нами поехал генерал Бернов, которого все звали неизвестно почему «тетя Вотя». Толстый и некрасивый, с предлинными усами, которыми гордился, он был похож на тюленя. А на деле – добряк, чистый генерал Дуракин. Подчинялся всем отцовым прихотям, а отец без него не мог ни минуты. Было у генерала любимое выраженье «ну-ка стой», какое в разговоре вставлял он дело не по делу. Притом никто не знал, к чему именно оно относится. Эта его присказка сослужила ему однажды плохую службу. Как-то на параде вел он гвардейский полк и перед царской трибуной должен был погнать галопом и с саблями наголо. Отдавая приказ «В галоп!», он крикнул свое «ну-ка, стой!» и помчал во весь опор, не заметив, что гвардейцы его, остановленные странной командой, не стронулись с места.
Русские офицеры всегда, даже не находясь на службе, носили военный мундир. К штатскому платью они не привыкли и выглядели в нем странно, а порой сомнительно. Вот почему отец со своим приятелем-генералом вызвали подозренье у ювелира Бушрона, когда принесли ему в починку матушкины украшения. Завидев бесценные брильянты в руках двух подозрительных субъектов, ювелир поспешил предупредить полицию. Ошибку свою он признал тогда лишь, когда предъявили они бумаги, удостоверявшие личность. Тут уж ювелир рассыпался в извинениях.
Однажды мы с матушкою оказались на рю де ля Пэ и встретили торговца собаками. Рыжий песик с черной мордочкой по кличке Наполеон так мне понравился, что я стал упрашивать матушку купить его. Матушка, к моей радости, согласилась. А вот собачью кличку я счел кощунственной и переименовал его в Клоуна.
Восемнадцать лет Клоун не расставался со мной, был мне верным товарищем. Очень скоро он стал знаменит. Все, от членов императорской фамилии до последнего нашего холопа, знали и любили его. Он был как уличный парижский мальчишка, любил пофрантить и принимал важный вид перед фотографами. Обожал конфеты и шампанское. Когда пьянел, становился уморительным. А если у него пучило живот, он подходил к камину и совал туда зад с виноватым видом, точно прося прощенья.
У Клоуна были свои симпатии, а также свои антипатии, совершенно неодолимые. Не любил – непременно задирал ногу на брюки или юбку врага. К примеру, так возненавидел одну матушкину приятельницу, что пришлось его запирать, когда та приходила к нам. Однажды она явилась в восхитительном вортовском платье розового бархата. К несчастью, Клоуна запереть забыли. Едва приятельница вошла, он бросился к ней и облил ей весь подол. С дамой случилась истерика.
Клоун мог бы выступать в цирке. В жокейском костюмчике он забирался на пони и с трубкой в зубах изображал курильщика. Был он и охотником неплохим и приносил дичь как настоящая охотничья собака.
Однажды заехал к матушке обер-прокурор Святейшего синода и, на мой взгляд, слишком засиделся. Решил я действовать при помощи Клоуна. Густо набелил и нарумянил его, как старую кокотку, напялил на него парик и платье и выпустил в таком виде в гостиную. Клоун понял, чего от него ждут, и вызывающе, на задних лапках, прошел к гостю. Тот, скандализованный, немедленно удалился. Мне только того и надо было.
С Клоуном мы не разлучались. Он ходил за мной всюду, а ночью спал рядом на подушке. Когда Серов писал мой портрет, то просил, чтоб и Клоун сидел при мне непременно: говорил, это лучшая его модель.
Прожив восемнадцать лет, Клоун умер, и я похоронил его в саду нашего дома на Мойке.
Великий князь Михаил Николаевич и сын его великий князь Алексей каждое лето приезжали на несколько дней погостить в Архангельское. Великий князь Михаил был последним сыном императора Николая I. Он участвовал в Крымской, Кавказской и Турецкой войнах и двадцать два года оставался императорским наместником на Кавказе, а по возвращении получил пост главного инспектора артиллерии и должность председателя Государственного совета.
В детстве моем великий князь Алексей, старше меня на десять лет, непременно привозил мне игрушки. Помню, в частности, надувного Арлекина – в надутом виде вдвое больше меня. Очень я ему обрадовался. Однако радость была недолговечна: белка Типти очень скоро в клочки растерзала его.
Великий князь Михаил любил смотреть, как мы с братом играем в теннис. Усевшись в глубокое кресло, мог часами наблюдать за игрой. Игроком я был никудышным, мячи посылал во все стороны и однажды угодил великому князю в глаз. Удар оказался столь сильным, что пришлось вызвать окулиста, московскую знаменитость, дабы великий князь сохранил глаз.
Оплошность подобного рода я совершил еще раз в Павловске, в летнем доме великого князя Константина Константиновича. Там же находились сестра его, греческая королева Ольга, и мать, великая княгиня Александра Осиповна, почтенная пожилая особа, которую в кресле на колесах катали по саду. Все ее очень почитали. Когда ее этак вывозили в сопровожденье родных, казалось, движется шествие с церковным пастырем во главе.
Однажды каталку с великой княгиней вывезли из дворца, когда младший сын королевы Ольги, принц Христофор, и я играли в мяч на дворцовой лужайке. С обычной своей неловкостью я сильно ударил по мячу. Мяч полетел в сторону кресла и попал почтенной даме прямо в лицо.
В Петербурге великий князь Константин жил в Мраморном дворце – роскошном здании из серого мрамора, построенном Екатериной II для фаворита своего графа Орлова. Я хаживал туда играть с великокняжескими детьми. Однажды вздумалось им поиграть в похороны президента Феликса Фора, моего тезки. Всю игру я усердно изображал покойника. Однако, не успели меня вытащить из «могилы», я, разозленный, наставил своим «могильщикам» фонарей под глазом. С тех пор ни в Мраморный дворец, ни в Павловск меня не звали.
До пятнадцати лет я страдал лунатизмом. Как-то ночью в Архангельском я очнулся верхом на балюстраде одного из балконов. Разбудил меня, видимо, птичий крик. Увидав, что внизу пропасть, я до смерти перепугался. На мой крик прибежал лакей и выручил меня. Я был так благодарен ему, что упросил родителей дать мне его в услуженье. С тех пор Иван находился при мне неотлучно, и я считал его скорее другом, нежели слугой. Оставался он со мной вплоть до 17-го года. Когда стряслась революция, он был в отпуске. Обратно доехать до меня ему не удалось, и я навсегда потерял его след.
В 1902 году отец с матерью отправили меня в путешествие по Италии со старым преподавателем искусства Адрианом Праховым. Шутовской вид старика учителя тотчас бросался в глаза. Коротенький и большеголовый, с шапкой волос и рыжей бородой, он походил на клоуна. Мы решили звать друг друга «дон Адриано» и «дон Феличе». Начали вояж мы в Венеции, кончили Сицилией. Учитель научил меня, однако, не совсем тому, чему должен был.
Я изнемогал от жары, и художественные красоты Италии созерцал неохотно. Зато дон Адриано бегал по церквам и музеям неутомимо и весело. Часами простаивал у картин и каждому встречному-поперечному рассказывал о них по-французски с чудовищным акцентом. Туристы, пораженные его эрудицией, ходили за нами толпами. Что до меня, я терпеть не мог коллективного обученья и проклинал этих потных субъектов с фотографическими аппаратами, постоянных наших преследователей.
Одевался дон Адриано очень, по его мнению, подходяще к тамошнему климату: носил белый шелковый костюм, соломенную шляпу и зонтик на ярко-зеленой подкладке. По улице за нами вечно бежали мальчишки. Как ни мал я был, а понял, что не с ним бы плавать в венецейской гондоле.
Прибыв в Неаполь, мы сняли номер в гостинице «Везувий». Жарко было нестерпимо, и до вечера я и носа на улицу не казал. Учитель целыми днями бегал по своим неаполитанским знакомым, коих имел много, а я скучал в гостинице. На закате, когда жара спадала, я выходил на балкон и смотрел на прохожих. Иногда заговаривал с кем-нибудь, но по-итальянски говорил через пень-колоду, и беседы не получалось. Однажды у гостиницы остановился фиакр. Из него вышли две дамы. Кучер был славный на вид юноша, к тому ж понимал по-французски. Я признался ему, что скучаю в Неаполе, что хочу погулять по городу ночью. Он вызвался быть моим провожатым в тот же вечер и обещал заехать за мной в одиннадцать. В это время учитель мой уже засыпал. Приехал кучер точно, как обещал. Я на цыпочках вышел из номера и, ничуть не заботясь, что иду без гроша, уселся в фиакр. Мы поехали. Миновав несколько безлюдных улочек, итальянец остановился у какой-то двери, впотьмах. Войдя в дом, я поразился: с потолка свисают на веревках чучела животных, в том числе огромный крокодил. На миг мне почудилось, что я в зоологическом музее. Но понял, что это не музей, когда увидел накрашенную толстуху в фальшивых брильянтах. В гостиной, куда толстуха провела нас, стояли красные плюшевые диваны и сплошь зеркала. Я оробел, но вожатый мой, ничуть не смущаясь, потребовал шампанского и сел подле меня. Хозяйка заведения устроилась тут же. Мимо прохаживались красотки. Пахло потом и дешевыми духами. Красавицы были всех мастей, даже чернокожие. Иные в чем мать родила. Иные одеты как баядерки. Кто-то в матроске, кто-то в детском платьице. Они прохаживались, вихляя бедрами и кокетливо поглядывая на меня. Я совсем смутился, даже испугался. Кучер с хозяйкой то и дело прикладывались к бутылке. Я тоже стал пить. Они чмокали меня, говоря: «Ке белло бамбино!»
Вдруг открылась дверь, и я обомлел: на пороге стоял мой старик учитель. Хозяйка бросилась навстречу и обняла как завсегдатая, своего человека. Я было спрятался за кучерову спину, но дон Адриано уже заметил меня. Радостно улыбаясь, он сжал меня в объятьях с воплем «Дон Феличе! Дон Феличе!». Все смотрели онемев. Первый опомнился кучер. Он наполнил бокал шампанским, крикнул: «Ура, ура!», и все подхватили крик.
Уж не помню, когда все это кончилось, однако проснулся я на другой день с сильнейшей головной болью. Более в гостинице я один не сидел. После полудня, когда жара слабела, мы шли с учителем по музеям, а вечером начинали ночную гульбу с ним же и моим приятелем-кучером.
Однажды прогуливался я по набережной, любуясь морем и Везувием. Какой-то нищий схватил меня за руку, показал пальцем на вулкан и шепнул мне с таинственным видом: «Это Везувий». Видимо сочтя, что продал ценное сведенье, он попросил денег. Расчет его был неплох. Я оплатил щедро – не сведенье его, а нахальство, развеселившее меня.
Из Неаполя поехали мы на Сицилию осмотреть Палермо, Таормину и Катанию. Жара была нестерпимой, а на макушке Этны лежал снег. Я, мечтая о прохладе, предложил учителю подняться к вершине. Дону Адриано не хотелось, но я уговорил его, и мы отправились, взяв ослов и проводников. Поднимались долго. Когда добрались до кратера, старик валился с ног от усталости. Только мы спешились, чтобы насладиться видами, как земля стала накаляться и местами выпускать пар. Мы перепугались, вскочили на ослов и пустились вниз. Но проводники наши засмеялись, позвали нас назад и сказали, что явленье это обычное и бояться нечего. Ночь мы провели в укрытии и от холода не могли сомкнуть глаз. Наутро мы поняли, что все же пар костей не ломит, и решили немедленно вернуться в Катанию. На обратном пути чуть было не вышло трагедии. На тропинке вдоль кратера учителев осел оступился и скинул всадника. Тот полетел в пропасть. К счастью, он успел уцепиться за скалу, пока проводники бежали на выручку. Когда его вытащили, он был ни жив ни мертв со страху.
Перед тем как вернуться в Россию, несколько дней мы провели в Риме. Безумно жалею, что так дурно распорядился своим итальянским временем. Венеция и Флоренция необычайно впечатляли меня, но мал я еще был ценить красоту. В воспоминаньях о моей первой Италии художества – совсем иные!
Глава 6
В 1903 году преподобный Серафим Саровский, почивший в Саровской пустыни тому лет семьдесят, был причислен к лику святых. Царь Николай вместе со всей императорской семьей присутствовал на церемонии обретения мощей и канонизации преподобного Серафима.
Хотя история сего святого не связана ни со мной, ни с семейством моим, хочу рассказать ее, ибо в моем детстве она не прошла бесследно, к тому ж о канонизации этой много говорилось в дни моего шестнадцатилетия.
Старец родился в 1759 году в Курске в семье купца Мошнина. Родители его были честны и набожны. Сам Серафим с детства также отличался благочестием, часами молился перед иконами.
Однажды, взойдя с матерью на недостроенную колокольню, он упал с башни и, пролетев пятьдесят метров, рухнул на землю. Мать сбежала вниз вне себя от горя, считая его уже мертвым. Каковы же были ее изумленье и радость, когда она увидела его стоящим на ногах, целым и невредимым. Весть тотчас облетела город, и в дом к Мошниным повалил народ. Все желали видеть чудо-дитя. Впоследствии ему не однажды еще грозила смертельная опасность, но чудесным образом всякий раз бывал он спасен.
Восемнадцати лет вступил он в Саровскую обитель. С годами, однако, монастырская жизнь показалась ему суровою недостаточно, и он удалился в пустынь. Пятнадцать лет он жил отшельником в посту и молитвах. Тамошние жители приносили ему еду, но все почти он скармливал птицам и зверям, с коими был дружен. Игуменья из соседней обители, когда зашла к нему, обмерла от страху, увидав на пороге лежащего медведя. Старец заверил ее, что зверь безобидный, что ему, старцу, он друг и всякий день приносит из лесу мед. Чтобы окончательно успокоить мать-настоятельницу, он послал медведя за медом. Медведь пошел и вскоре вернулся, неся в лапах медовые соты. Серафим вручил их изумленной матушке.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: