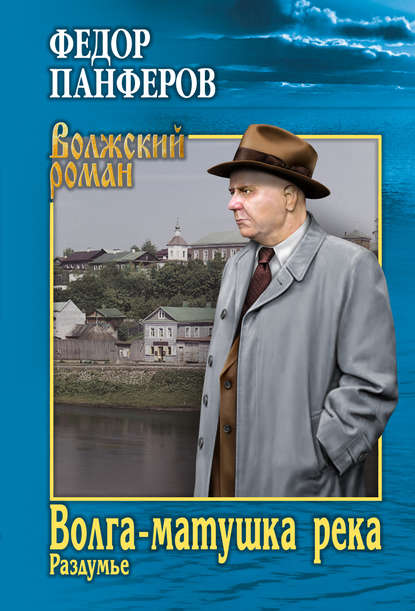По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Волга-матушка река. Книга 2. Раздумье
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1958
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И любил он теперь Анну еще сильнее, нежели в первые дни встречи. Тогда у него вспыхнула непреоборимая тяга к ней, ныне к этой тяге присоединились еще и отцовская нежность, бережливость, ласка, а главное, они во всем были вместе: во взглядах, в устремлениях, в работе. То, что делал Иван Евдокимович, было родным, близким и для Анны, а то, что делала Анна, глубоко интересовало Ивана Евдокимовича. И все это теперь могло рухнуть, как рухнул сад, сваливший Анну.
Сегодня, сидя у постели больной и думая так, Иван Евдокимович и не заметил, как в комнату вошла Мария Кондратьевна.
– Давали вы ей порошки, те, что я утром принесла? – спросила она.
Он машинально ответил:
– Да. Да. А как же!
– И микстуру?
– Да. Да. А как же!
Она подошла к окну, приподняла простыню и ахнула:
– Все не тронуто! Вы это что же?
– Ему может повредить, – ответил он, умоляюще глядя на врача.
Мария Кондратьевна внимательно посмотрела на академика, думая: «Не тронулся ли?» – и произнесла:
– Вы хотите сказать: «ей»?
– Нет. Ему. – И Иван Евдокимович кивком головы указал на живот Анны.
– Ребенку? А вы ее-то жалеете? Ведь без нее и ребенку не быть. Нет, я лечить больше не буду. По нескольку раз в день таскаюсь сюда, а он простыней все прикрыл! – И Марья Кондратьевна в гневе покинула домик.
– Самой нужно в санаторий! – крикнул ей вслед Иван Евдокимович и на простыню положил еще подушку.
4
Иван Евдокимович не из тех, кто при первой же, даже значительной беде впадает в уныние, растерянность. Нет, он не такой: горести, невзгоды и беды только взвинчивали его, заставляли много и с еще большей энергией работать. Даже смерть первой жены, с которой он прожил около тридцати лет, даже то, что сын стал алкоголиком, даже критика, с которой порою обрушивались на него в печати, – ничто не могло оторвать Ивана Евдокимовича от дел.
А дел здесь, в полупустыне, оказалось куда больше, нежели там, в Москве. Неподалеку от озера Аршань-Зельмень, где расположилось отделение Академии наук, заложен лесопитомник. Замечательный! И это в то время, когда «ура-лесоводы» с лесопосадкой в степях прогорели: вместо дуба у них растет трын-трава.
– На ура хотели взять, вот и лопнули! – горестно смеясь, говорил академик. – А вы вот что, – настойчиво советовал он работникам отделения Академии наук. – Опыты в лабораториях ведете – это полезно… Но окунитесь и в жизнь. В совхозе имени Чапаева мастера без нас с вами вывели новую породу коров – устойчивую, молочную и в то же время мясную. Там две женщины творят огромное дело – Марьям, дочь чабана, и Наталья Михайловна Коврова. Поезжайте-ка к ним. Присмотритесь и, если понадобится, своими знаниями помогите им, а одновременно и сами поучитесь у них. Егор Васильевич Пряхин самостийно вывел породу овец, дающих изобилие шерсти. Академию он не кончал. Поучитесь у него. Анна Петровна Арбузина вырастила сад. Займитесь ее садом – ума от народной мудрости наберитесь. Учитесь, учитесь у народа!
И академик развернул такую деятельность, что некоторые сотрудники в полушутку говорили:
– Пена с нас пошла.
Но вот отара Егора Пряхина погибла под броней льда, и одновременно эта же самая броня порушила Аннушкин сад, и оба они слегли… И академик сник, стал чрезмерно раздражителен. Может быть, потому, что беда настигла его на рубеже, за которым все уже катится под горку: ныне пятьдесят, потом стукнет шестьдесят и… готовь саван. Может быть, это, а может, другое. Одно он ясно чувствовал и понимал: никогда еще так полно никого не любил, как любит Анну.
«Все светилось по-другому: живешь, работаешь, и все хочется быть перед ней лучше, чтобы она радовалась, глядя на мои труды, на мои поступки, чтобы гордилась мною, – думает он, неотрывно всматриваясь в раскрасневшееся лицо жены, следя за ее дыханием. – И все это может… может…»
И академик, не в силах назвать то, что может случиться, поднялся со стула и стал расхаживать по комнате, мягко ступая. Затем приблизился к рабочему столу Анны, выдвинул ящик и достал толстую в черном переплете тетрадь. Этого он никогда не делал, но теперь ему нестерпимо захотелось хотя бы так побеседовать с женой.
Раскрыв тетрадь, он прочитал первую страницу, исписанную рукой Анны. Прочитал и вторую… и так с десяток страниц. Записи были еще робкие, довольно туманные, иногда в виде вопросов.
«Иван Евдокимович сегодня сказал мне, что имеется уже около тридцати тысяч видов пшеницы. А что такое вид? Сорт? Тридцать тысяч?»
В другом месте она записала: «Ванюша у меня хороший: не сердится, если я его даже о какой-нибудь глупости спрашиваю».
Иван Евдокимович приложил развернутую тетрадь к груди и, глядя на Анну, прошептал:
– Спасибо, Аннушка!
Дальше запись шла уже более серьезная: «Живем, работаем, садим сад, сеем зерно, и кажется нам, просто сеем и сеем, садим и садим. А оказывается, как сегодня рассказал мне Иван Евдокимович, во всем есть свои законы. Нарушь этот закон – и провал. Закон природы – сила великая. Познаешь эти законы, и сам станешь силой».
– Правильно, Аннушка!.. Правильно, Анна Петровна! – вслух проговорил Иван Евдокимович, читая эти строки.
Но в конце тетради пошло другое: «Погиб сад, и мне вроде отрубили голову: черно свет глянул на меня…»
И опять сердце у Ивана Евдокимовича заныло. Он спрятал тетрадь в стол, подошел к Анне, положил руку на ее горячий лоб и прошептал:
– Что нам делать, Аннушка? Что делать? Ума не приложу! Груб я стал: Марии Кондратьевне нагрубил, Назарову…
Вчера Назаров, председатель Разломовского райисполкома, чтобы отвлечь Ивана Евдокимовича от горестей, да и похвастаться тем, как эти годы он, агроном Назаров, верный его ученик, «внедрял в колхозах района травопольную систему земледелия», преодолевая консервативное упрямство местных полеводов и председателей колхозов, особенно Иннокентия Жука, уговорил академика проехаться с ним.
Он не повез его по владениям колхоза «Гигант», с насмешкой заявив:
– В «Гиганте» смотреть нечего: ни системы, ни порядка там… Иннокентий-то Савельевич совсем от рук отбился, особенно после того, как о нем лестное слово сказал секретарь Центрального Комитета партии. Окончательно порушил гармоническую травопольную систему, и воцарилась полная неразбериха. Клевер из посевного клина выкинул, чередование – побоку, на поля стал возить торф, суперфосфат, сеет яровую да озимую пшеницу, а овсы, просо, подсолнух – все к едреной тетере. Дует себе по низинам и лиманам, – говорил Назаров, подражая «разломовскому» простонародному языку. Он знал, что этот язык очень нравится академику, и не замечал, как тот все время морщится, слыша его «к едреной тетере».
Назаров, как все упрямые люди, явно сгущал краски, нагоняя тень на Иннокентия Жука, который вместо клевера, овса и проса ввел обширный клин кукурузы, и она в первый же год дала колхозу обильный урожай початков и замечательный корм для скота. Назаров знал, что наперекор его желанию у Иннокентия Жука «на нынешний день все превосходно», и именно поэтому повез академика на поля соседних колхозов. Но, как ни крутился, все равно не миновал окрайки ярового поля колхоза «Гигант». Пшеница тут была густая, чернеющая в своей зелени и явно сильная. Академик обратил на нее внимание, но Назаров, желая унизить Иннокентия Жука, сказал:
– Суперфосфат сделал свое преступное дело. Анархизм в психике Иннокентия Савельевича укрепится теперь бесповоротно.
– Умный, – задумчиво, с какой-то затаенной скорбью сказал академик.
– Кто? – спросил Назаров, в душе уверенный, что похвала академика относится к нему, агроному Назарову.
– Иннокентий Савельевич, – все так же задумчиво вымолвил Иван Евдокимович.
«Семейная беда, видно, пошатнула академика», – решил Назаров и повез его в колхоз «Рассвет».
Здесь озимые вышли из-под снега хорошими, обещающими урожай: выпали майские обильные дожди, и влаги в земле накопилось много, потому пшеница стелилась на огромной площади, как зеленоватый бархат. Она уже раскинулась, покрыла землю сплошь и вот-вот пойдет в трубку, а там даст зерно. Яровые тоже выглядели неплохо. Но посевы клевера напоминали остриженную голову в лишаях: куда ни глянь, сизоватые пятна. Да и сам клевер выглядел весьма убого.
– Зачем вы его вводите? – неожиданно для Назарова спросил Иван Евдокимович. – Укос он вам дает нищенский…
Назаров, худенький, особенно без пиджака, в голубой рубашке, забежал наперед Ивану Евдокимовичу и, удивленно глядя на него, проговорил:
– А как же, Иван Евдокимович? Без клевера нарушим травопольную систему.
– Вы ее уже нарушили. Клевер, как вам известно, должен подготовить соответствующую питательную среду для зерновых и дать обильный укос. Так ведь? А ваш клевер сам подох и почву, я уверен, изгадил. Да и зачем вам заниматься клевером? Вы житняк не убираете. Едешь на машине десять, двадцать километров, степь ровная, как стол… и стоит нескошенный, пересохший житняк ростом в пояс человека. Сотни тысяч гектаров пропадают. Дескать, житняк что? Дикая трава. Но житняк по питательности почти не уступает клеверу и люцерне. Дикая трава! Ай, позор какой, дикую траву не убираем, а клевер сеем!
Назаров снова заглянул в глаза академику, более уверенно подумав: «Умом пошатнулся: агрономическую науку побоку», – и робко заговорил:
– Но, Иван Евдокимович… ведь вы сами учили нас… а теперь – к прадедам, значит, возвращайся?
Сегодня, сидя у постели больной и думая так, Иван Евдокимович и не заметил, как в комнату вошла Мария Кондратьевна.
– Давали вы ей порошки, те, что я утром принесла? – спросила она.
Он машинально ответил:
– Да. Да. А как же!
– И микстуру?
– Да. Да. А как же!
Она подошла к окну, приподняла простыню и ахнула:
– Все не тронуто! Вы это что же?
– Ему может повредить, – ответил он, умоляюще глядя на врача.
Мария Кондратьевна внимательно посмотрела на академика, думая: «Не тронулся ли?» – и произнесла:
– Вы хотите сказать: «ей»?
– Нет. Ему. – И Иван Евдокимович кивком головы указал на живот Анны.
– Ребенку? А вы ее-то жалеете? Ведь без нее и ребенку не быть. Нет, я лечить больше не буду. По нескольку раз в день таскаюсь сюда, а он простыней все прикрыл! – И Марья Кондратьевна в гневе покинула домик.
– Самой нужно в санаторий! – крикнул ей вслед Иван Евдокимович и на простыню положил еще подушку.
4
Иван Евдокимович не из тех, кто при первой же, даже значительной беде впадает в уныние, растерянность. Нет, он не такой: горести, невзгоды и беды только взвинчивали его, заставляли много и с еще большей энергией работать. Даже смерть первой жены, с которой он прожил около тридцати лет, даже то, что сын стал алкоголиком, даже критика, с которой порою обрушивались на него в печати, – ничто не могло оторвать Ивана Евдокимовича от дел.
А дел здесь, в полупустыне, оказалось куда больше, нежели там, в Москве. Неподалеку от озера Аршань-Зельмень, где расположилось отделение Академии наук, заложен лесопитомник. Замечательный! И это в то время, когда «ура-лесоводы» с лесопосадкой в степях прогорели: вместо дуба у них растет трын-трава.
– На ура хотели взять, вот и лопнули! – горестно смеясь, говорил академик. – А вы вот что, – настойчиво советовал он работникам отделения Академии наук. – Опыты в лабораториях ведете – это полезно… Но окунитесь и в жизнь. В совхозе имени Чапаева мастера без нас с вами вывели новую породу коров – устойчивую, молочную и в то же время мясную. Там две женщины творят огромное дело – Марьям, дочь чабана, и Наталья Михайловна Коврова. Поезжайте-ка к ним. Присмотритесь и, если понадобится, своими знаниями помогите им, а одновременно и сами поучитесь у них. Егор Васильевич Пряхин самостийно вывел породу овец, дающих изобилие шерсти. Академию он не кончал. Поучитесь у него. Анна Петровна Арбузина вырастила сад. Займитесь ее садом – ума от народной мудрости наберитесь. Учитесь, учитесь у народа!
И академик развернул такую деятельность, что некоторые сотрудники в полушутку говорили:
– Пена с нас пошла.
Но вот отара Егора Пряхина погибла под броней льда, и одновременно эта же самая броня порушила Аннушкин сад, и оба они слегли… И академик сник, стал чрезмерно раздражителен. Может быть, потому, что беда настигла его на рубеже, за которым все уже катится под горку: ныне пятьдесят, потом стукнет шестьдесят и… готовь саван. Может быть, это, а может, другое. Одно он ясно чувствовал и понимал: никогда еще так полно никого не любил, как любит Анну.
«Все светилось по-другому: живешь, работаешь, и все хочется быть перед ней лучше, чтобы она радовалась, глядя на мои труды, на мои поступки, чтобы гордилась мною, – думает он, неотрывно всматриваясь в раскрасневшееся лицо жены, следя за ее дыханием. – И все это может… может…»
И академик, не в силах назвать то, что может случиться, поднялся со стула и стал расхаживать по комнате, мягко ступая. Затем приблизился к рабочему столу Анны, выдвинул ящик и достал толстую в черном переплете тетрадь. Этого он никогда не делал, но теперь ему нестерпимо захотелось хотя бы так побеседовать с женой.
Раскрыв тетрадь, он прочитал первую страницу, исписанную рукой Анны. Прочитал и вторую… и так с десяток страниц. Записи были еще робкие, довольно туманные, иногда в виде вопросов.
«Иван Евдокимович сегодня сказал мне, что имеется уже около тридцати тысяч видов пшеницы. А что такое вид? Сорт? Тридцать тысяч?»
В другом месте она записала: «Ванюша у меня хороший: не сердится, если я его даже о какой-нибудь глупости спрашиваю».
Иван Евдокимович приложил развернутую тетрадь к груди и, глядя на Анну, прошептал:
– Спасибо, Аннушка!
Дальше запись шла уже более серьезная: «Живем, работаем, садим сад, сеем зерно, и кажется нам, просто сеем и сеем, садим и садим. А оказывается, как сегодня рассказал мне Иван Евдокимович, во всем есть свои законы. Нарушь этот закон – и провал. Закон природы – сила великая. Познаешь эти законы, и сам станешь силой».
– Правильно, Аннушка!.. Правильно, Анна Петровна! – вслух проговорил Иван Евдокимович, читая эти строки.
Но в конце тетради пошло другое: «Погиб сад, и мне вроде отрубили голову: черно свет глянул на меня…»
И опять сердце у Ивана Евдокимовича заныло. Он спрятал тетрадь в стол, подошел к Анне, положил руку на ее горячий лоб и прошептал:
– Что нам делать, Аннушка? Что делать? Ума не приложу! Груб я стал: Марии Кондратьевне нагрубил, Назарову…
Вчера Назаров, председатель Разломовского райисполкома, чтобы отвлечь Ивана Евдокимовича от горестей, да и похвастаться тем, как эти годы он, агроном Назаров, верный его ученик, «внедрял в колхозах района травопольную систему земледелия», преодолевая консервативное упрямство местных полеводов и председателей колхозов, особенно Иннокентия Жука, уговорил академика проехаться с ним.
Он не повез его по владениям колхоза «Гигант», с насмешкой заявив:
– В «Гиганте» смотреть нечего: ни системы, ни порядка там… Иннокентий-то Савельевич совсем от рук отбился, особенно после того, как о нем лестное слово сказал секретарь Центрального Комитета партии. Окончательно порушил гармоническую травопольную систему, и воцарилась полная неразбериха. Клевер из посевного клина выкинул, чередование – побоку, на поля стал возить торф, суперфосфат, сеет яровую да озимую пшеницу, а овсы, просо, подсолнух – все к едреной тетере. Дует себе по низинам и лиманам, – говорил Назаров, подражая «разломовскому» простонародному языку. Он знал, что этот язык очень нравится академику, и не замечал, как тот все время морщится, слыша его «к едреной тетере».
Назаров, как все упрямые люди, явно сгущал краски, нагоняя тень на Иннокентия Жука, который вместо клевера, овса и проса ввел обширный клин кукурузы, и она в первый же год дала колхозу обильный урожай початков и замечательный корм для скота. Назаров знал, что наперекор его желанию у Иннокентия Жука «на нынешний день все превосходно», и именно поэтому повез академика на поля соседних колхозов. Но, как ни крутился, все равно не миновал окрайки ярового поля колхоза «Гигант». Пшеница тут была густая, чернеющая в своей зелени и явно сильная. Академик обратил на нее внимание, но Назаров, желая унизить Иннокентия Жука, сказал:
– Суперфосфат сделал свое преступное дело. Анархизм в психике Иннокентия Савельевича укрепится теперь бесповоротно.
– Умный, – задумчиво, с какой-то затаенной скорбью сказал академик.
– Кто? – спросил Назаров, в душе уверенный, что похвала академика относится к нему, агроному Назарову.
– Иннокентий Савельевич, – все так же задумчиво вымолвил Иван Евдокимович.
«Семейная беда, видно, пошатнула академика», – решил Назаров и повез его в колхоз «Рассвет».
Здесь озимые вышли из-под снега хорошими, обещающими урожай: выпали майские обильные дожди, и влаги в земле накопилось много, потому пшеница стелилась на огромной площади, как зеленоватый бархат. Она уже раскинулась, покрыла землю сплошь и вот-вот пойдет в трубку, а там даст зерно. Яровые тоже выглядели неплохо. Но посевы клевера напоминали остриженную голову в лишаях: куда ни глянь, сизоватые пятна. Да и сам клевер выглядел весьма убого.
– Зачем вы его вводите? – неожиданно для Назарова спросил Иван Евдокимович. – Укос он вам дает нищенский…
Назаров, худенький, особенно без пиджака, в голубой рубашке, забежал наперед Ивану Евдокимовичу и, удивленно глядя на него, проговорил:
– А как же, Иван Евдокимович? Без клевера нарушим травопольную систему.
– Вы ее уже нарушили. Клевер, как вам известно, должен подготовить соответствующую питательную среду для зерновых и дать обильный укос. Так ведь? А ваш клевер сам подох и почву, я уверен, изгадил. Да и зачем вам заниматься клевером? Вы житняк не убираете. Едешь на машине десять, двадцать километров, степь ровная, как стол… и стоит нескошенный, пересохший житняк ростом в пояс человека. Сотни тысяч гектаров пропадают. Дескать, житняк что? Дикая трава. Но житняк по питательности почти не уступает клеверу и люцерне. Дикая трава! Ай, позор какой, дикую траву не убираем, а клевер сеем!
Назаров снова заглянул в глаза академику, более уверенно подумав: «Умом пошатнулся: агрономическую науку побоку», – и робко заговорил:
– Но, Иван Евдокимович… ведь вы сами учили нас… а теперь – к прадедам, значит, возвращайся?