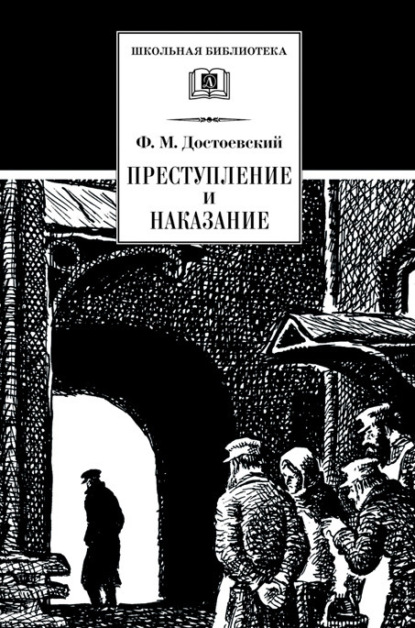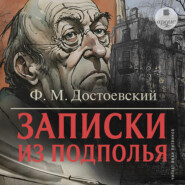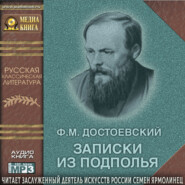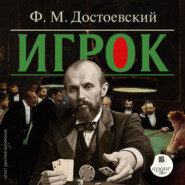По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Преступление и наказание
Год написания книги
1866
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну вот! А третьего-то дня, в «Гамбринусе», три партии сряду взял у вас на биллиарде!
– А-а-а…
– Так нет их-то? Странно. Глупо, впрочем, ужасно. Куда бы старухе уйти? У меня дело.
– Да и у меня, батюшка, дело!
– Ну, что же делать? Значит, назад. Э-эх! А я было думал денег достать! – вскричал молодой человек.
– Конечно, назад, да зачем назначать? Сама мне, ведьма, час назначила. Мне ведь крюк. Да и куда, к черту, ей шляться, не понимаю? Круглый год сидит ведьма, киснет, ноги болят, а тут вдруг и на гулянье!
– У дворника не спросить ли?
– Чего?
– Куда ушла и когда придет?
– Гм… черт… спросить… Да ведь она ж никуда не ходит… – и он еще раз дернул за ручку замка. – Черт, нечего делать, идти!
– Стойте! – закричал вдруг молодой человек. – Смотрите: видите, как дверь отстает, если дергать?
– Ну?
– Значит, она не на замке, а на запоре, на крючке то есть! Слышите, как запор брякает?
– Ну?
– Да как же вы не понимаете? Значит, кто-нибудь из них дома. Если бы все ушли, так снаружи бы ключом заперли, а не на запор изнутри. А тут, – слышите, как запор брякает? А чтобы затвориться на запор изнутри, надо быть дома, понимаете? Стало быть, дома сидят, да не отпирают!
– Ба! Да и в самом деле! – закричал удивившийся Кох. – Так что ж они там! – И он неистово начал дергать дверь.
– Стойте! – закричал опять молодой человек, – не дергайте! Тут что-нибудь да не так… вы ведь звонили, дергали – не отпирают; значит, или они обе в обмороке, или…
– Что?
– А вот что: пойдемте-ка за дворником; пусть он их сам разбудит.
– Дело! – Оба двинулись вниз.
– Стойте! Останьтесь-ка вы здесь, а я сбегаю вниз за дворником.
– Зачем оставаться?
– А мало ли что?..
– Пожалуй…
– Я ведь в судебные следователи готовлюсь! Тут очевидно, оч-че-в-видно что-то не так! – горячо вскричал молодой человек и бегом пустился вниз по лестнице.
Кох остался, пошевелил еще раз тихонько звонком, и тот звякнул один удар; потом тихо, как бы размышляя и осматривая, стал шевелить ручку двери, притягивая и опуская ее, чтоб убедиться еще раз, что она на одном запоре. Потом пыхтя нагнулся и стал смотреть в замочную скважину; но в ней изнутри торчал ключ, и, стало быть, ничего не могло быть видно.
Раскольников стоял и сжимал топор. Он был точно в бреду. Он готовился даже драться с ними, когда они войдут. Когда стучались и сговаривались, ему несколько раз вдруг приходила мысль кончить все разом и крикнуть им из-за дверей. Порой хотелось ему начать ругаться с ними, дразнить их, покамест не отперли. «Поскорей бы уж!» – мелькнуло в его голове.
– Однако он, черт…
Время проходило, минута, другая – никто не шел. Кох стал шевелиться.
– Однако, черт!.. – закричал он вдруг и в нетерпении, бросив свой караул, отправился тоже вниз, торопясь и стуча по лестнице сапогами. Шаги стихли.
– Господи, что же делать!
Раскольников снял запор, приотворил дверь – ничего не слышно, и вдруг, совершенно уже не думая, вышел, притворил как мог плотнее дверь за собой и пустился вниз.
Он уже сошел три лестницы, как вдруг послышался сильный шум ниже, – куда деваться! Никуда-то нельзя было спрятаться. Он побежал было назад, опять в квартиру.
– Эй, леший, черт! Держи!
С криком вырвался кто-то внизу из какой-то квартиры и не то что побежал, а точно упал вниз, по лестнице, крича во всю глотку:
– Митька! Митька! Митька! Митька! Митька! Шут те дери-и-и!
Крик закончился взвизгом; последние звуки послышались уже на дворе; все затихло. Но в то же самое мгновение несколько человек, громко и часто говоривших, стали шумно подниматься на лестницу. Их было трое или четверо. Он расслышал звонкий голос молодого. «Они!»
В полном отчаянии пошел он им прямо навстречу: будь что будет! Остановят, все пропало, пропустят, тоже все пропало: запомнят. Они уже сходились; между ними оставалась всего одна только лестница – и вдруг спасение! В нескольких ступеньках от него, направо, пустая и настежь отпертая квартира, та самая квартира второго этажа, в которой красили рабочие, а теперь, как нарочно, ушли. Они-то, верно, и выбежали сейчас с таким криком. Полы только что окрашены, среди комнаты стоят кадочка и черепок с краской и с мазилкой. В одно мгновение прошмыгнул он в отворенную дверь и притаился за стеной, и было время: они уже стояли на самой площадке. Затем повернули вверх и прошли мимо, в четвертый этаж, громко разговаривая. Он выждал, вышел на цыпочках и побежал вниз.
Никого на лестнице! Под воротами тоже. Быстро прошел он подворотню и повернул налево по улице.
Он очень хорошо знал, он отлично хорошо знал, что они, в это мгновение, уже в квартире, что очень удивились, видя, что она отперта, тогда как сейчас была заперта, что они уже смотрят на тела и что пройдет не больше минуты, как они догадаются и совершенно сообразят, что тут только что был убийца и успел куда-нибудь спрятаться, проскользнуть мимо них, убежать; догадаются, пожалуй, и о том, что он в пустой квартире сидел, пока они вверх проходили. А между тем ни под каким видом не смел он очень прибавить шагу, хотя до первого поворота шагов сто оставалось. «Не скользнуть ли разве в подворотню какую-нибудь и переждать где-нибудь на незнакомой лестнице? Нет, беда! А не забросить ли куда топор? Не взять ли извозчика? Беда! беда!»
Наконец вот и переулок; он поворотил в него полумертвый; тут он был уже наполовину спасен и понимал это: меньше подозрений, к тому же тут сильно народ сновал, и он стирался в нем, как песчинка. Но все эти мучения до того его обессилили, что он едва двигался. Пот шел из него каплями; шея была вся смочена. «Ишь нарезался!» – крикнул кто-то ему, когда он вышел на канаву.
Он плохо теперь помнил себя; чем дальше, тем хуже. Он помнил, однако, как вдруг, выйдя на канаву, испугался, что мало народу и что тут приметнее, и хотел было поворотить назад в переулок. Несмотря на то что чуть не падал, он все-таки сделал крюку и пришел домой с другой совсем стороны.
Не в полной памяти прошел он и в ворота своего дома; по крайней мере, он уже прошел на лестницу и тогда только вспомнил о топоре. А между тем предстояла очень важная задача: положить его обратно, и как можно незаметнее. Конечно, он уже не в силах был сообразить, что, может быть, гораздо лучше было бы ему совсем не класть топора на прежнее место, а подбросить его, хотя потом, куда-нибудь на чужой двор.
Но все обошлось благополучно. Дверь в дворницкую была притворена, но не на замке, стало быть, вероятнее всего было, что дворник дома. Но до того уже он потерял способность сообразить что-нибудь, что прямо подошел к дворницкой и растворил ее. Если бы дворник спросил его: «что надо?» – он, может быть, так прямо и подал бы ему топор. Но дворника опять не было, и он успел уложить топор на прежнее место под скамью; даже поленом прикрыл по-прежнему. Никого, ни единой души, не встретил он потом до самой своей комнаты; хозяйкина дверь была заперта. Войдя к себе, он бросился на диван, так, как был. Он не спал, но был в забытьи. Если бы кто вошел тогда в его комнату, он бы тотчас же вскочил и закричал. Клочки и отрывки каких-то мыслей так и кишели в его голове; но он ни одной не мог схватить, ни на одной не мог остановиться, несмотря даже на усилия…
Часть вторая
I
Так пролежал он очень долго. Случалось, что он как будто и просыпался, и в эти минуты замечал, что уже давно ночь, а встать ему не приходило в голову. Наконец он заметил, что уже светло по-дневному. Он лежал на диване навзничь, еще остолбенелый от недавнего забытья. До него резко доносились страшные, отчаянные вопли с улицы, которые, впрочем, он каждую ночь выслушивал под своим окном, в третьем часу. Они-то и разбудили его теперь. «А! вот уж и из распивочных пьяные выходят, – подумал он, – третий час, – и вдруг вскочил, точно его сорвал кто с дивана. – Как! Третий уже час!» Он сел на диване, – и тут все припомнил! Вдруг, в один миг все припомнил!
В первое мгновение он думал, что с ума сойдет. Страшный холод обхватил его; но холод был и от лихорадки, которая уже давно началась с ним во сне. Теперь же вдруг ударил такой озноб, что чуть зубы не выпрыгнули и все в нем так и заходило. Он отворил дверь и начал слушать: в доме все совершенно спало. С изумлением оглядывал он себя и все кругом в комнате и не понимал: как это он мог вчера, войдя, не запереть дверей на крючок и броситься на диван, не только не раздевшись, но даже в шляпе: она скатилась и тут же лежала на полу, близ подушки. «Если бы кто зашел, что бы он подумал? Что я пьян, но…» Он бросился к окошку. Свету было довольно, и он поскорей стал себя оглядывать, всего, с ног до головы, все свое платье: нет ли следов? Но так нельзя было: дрожа от озноба, стал он снимать с себя все и опять осматривать кругом. Он перевертел все, до последней нитки и лоскутка, и, не доверяя себе, повторил осмотр раза три. Но не было ничего, кажется, никаких следов; только на том месте, где панталоны внизу осеклись и висели бахромой, на бахроме этой оставались густые следы запекшейся крови. Он схватил складной большой ножик и обрезал бахрому. Больше, кажется, ничего не было. Вдруг он вспомнил, что кошелек и вещи, которые он вытащил у старухи из сундука, все до сих пор у него по карманам лежат! Он и не подумал до сих пор их вынуть и спрятать! Не вспомнил о них даже теперь, как платье осматривал! Что ж это? Мигом бросился он их вынимать и выбрасывать на стол. Выбрав все, даже выворотив карманы, чтоб удостовериться, не остается ли еще чего, он всю эту кучу перенес в угол. Там, в самом углу, внизу, в одном месте были разодраны отставшие от стены обои: тотчас же он начал все запихивать в эту дыру, под бумагу: «вошло! все с глаз долой и кошелек тоже!» – радостно думал он, привстав и тупо смотря в угол, в оттопырившуюся еще больше дыру. Вдруг он весь вздрогнул от ужаса: «Боже мой, – шептал он в отчаянии, – что со мною? Разве это спрятано? Разве так прячут?»
Правда, он и не рассчитывал на вещи; он думал, что будут одни только деньги, а потому и не приготовил заранее места, – «но теперь-то, теперь чему я рад? – думал он. – Разве так прячут? Подлинно разум меня оставляет!» В изнеможении сел он на диван, и тотчас же нестерпимый озноб снова затряс его. Машинально потащил он лежавшее подле, на стуле, бывшее его студенческое зимнее пальто, теплое, но уже почти в лохмотьях, накрылся им, и сон, и бред опять разом охватили его. Он забылся.
Не более как минут через пять вскочил он снова и тотчас же, в исступлении, опять кинулся к своему платью. «Как это мог я опять заснуть, тогда как ничего не сделано! Так и есть, так и есть: петлю подмышкой до сих пор не снял! Забыл, об таком деле забыл! Такая улика!» Он сдернул петлю и поскорей стал разрывать ее в куски, запихивая их под подушку в белье. «Куски рваной холстины ни в каком случае не возбудят подозрения; кажется, так, кажется, так!» – повторял он, стоя среди комнаты, и с напряженным до боли вниманием стал опять высматривать кругом, на полу и везде, не забыл ли еще чего-нибудь? Уверенность, что все, даже память, даже простое соображение оставляют его, начинала нестерпимо его мучить. «Что, неужели уж начинается, неужели это уж казнь наступает? Вон, вон, так и есть!» Действительно, обрезки бахромы, которую он срезал с панталон, так и валялись на полу, среди комнаты, чтобы первый увидел! «Да что же это со мною!» – вскричал он опять как потерянный.