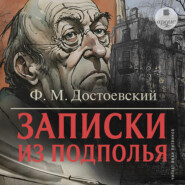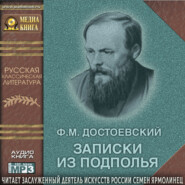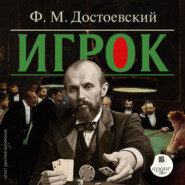По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Братья Карамазовы. Роман в четырех частях с эпилогом. Части 3, 4
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Э, черт! Этого недоставало, – пробормотал он со злобой, быстро переложил из правой руки кредитки в левую и судорожно выдернул из кармана платок. Но и платок оказался весь в крови (этим самым платком он вытирал голову и лицо Григорию): ни одного почти местечка не было белого, и не то что начал засыхать, а как-то заскоруз в комке и не хотел развернуться. Митя злобно шваркнул его об пол.
– Э, черт! Нет ли у вас какой тряпки… обтереться бы…
– Так вы только запачкались, а не ранены? Так уж лучше вымойтесь, – ответил Петр Ильич. – Вот рукомойник, я вам подам.
– Рукомойник? Это хорошо… только куда же я это дену? – в каком-то совсем уж странном недоумении указал он Петру Ильичу на свою пачку сторублевых, вопросительно глядя на него, точно тот должен был решить, куда ему девать свои собственные деньги.
– В карман суньте али на стол вот здесь положите, не пропадут.
– В карман? Да, в карман. Это хорошо… Нет, видите ли, это все вздор! – прокричал он, как бы вдруг выходя из рассеянности. – Видите: мы сперва это дело кончим, пистолеты-то, вы мне их отдайте, а вот ваши деньги… потому что мне очень, очень нужно… и времени, времени ни капли…
И, сняв с пачки верхнюю сторублевую, он протянул ее чиновнику.
– Да у меня и сдачи не будет, – заметил тот, – у вас мельче нет?
– Нет, – сказал Митя, поглядев опять на пачку и, как бы неуверенный в словах своих, попробовал две-три бумажки сверху, – нет, все такие же, – прибавил он и опять вопросительно поглядел на Петра Ильича.
– Да откуда вы так разбогатели? – спросил тот. – Постойте, я мальчишку своего пошлю сбегать к Плотниковым. Они запирают поздно – вот не разменяют ли. Эй, Миша! – крикнул он в переднюю.
– В лавку к Плотниковым – великолепнейшее дело! – крикнул и Митя, как бы осененный какою-то мыслью. – Миша, – обернулся он к вошедшему мальчику, – видишь, беги к Плотниковым и скажи, что Дмитрий Федорович велел кланяться и сейчас сам будет… Да слушай: чтобы к его приходу приготовили шампанского, так дюжинки три, да уложили как тогда, когда в Мокрое ездил… Я тогда четыре дюжины у них взял, – (вдруг обратился он к Петру Ильичу), – они уж знают, не беспокойся, Миша, – повернулся он опять к мальчику. – Да слушай: чтобы сыру там, пирогов страсбургских, сигов копченых, ветчины, икры, ну и всего, всего, что только есть у них, рублей этак на сто или на сто двадцать, как прежде было… Да слушай: гостинцев чтобы не забыли, конфет, груш, арбуза два или три, аль четыре, – ну нет, арбуза-то одного довольно, а шоколаду, леденцов, монпансье, тягушек – ну всего, что тогда со мной в Мокрое уложили, с шампанским рублей на триста чтобы было… Ну, вот и теперь чтобы так же точно. Да вспомни, Миша, если ты, Миша… Ведь его Мишей зовут? – опять обратился он к Петру Ильичу.
– Да постойте, – перебил Петр Ильич, с беспокойством его слушая и рассматривая, – вы лучше сами пойдите, тогда и скажете, а он переврет.
– Переврет, вижу, что переврет! Эх, Миша, а я было тебя поцеловать хотел за комиссию… Коли не переврешь, десять рублей тебе, скачи скорей… Шампанское, главное, шампанское чтобы выкатили, да и коньячку, да и красного, и белого, и всего этого, как тогда. Они уж знают, как тогда было.
– Да слушайте вы! – с нетерпением уже перебил Петр Ильич. – Я говорю: пусть он только сбегает разменять, да прикажет, чтобы не запирали, а вы пойдете и сами скажете… Давайте вашу кредитку. Марш, Миша, одна нога там, другая тут! – Петр Ильич, кажется, нарочно поскорей прогнал Мишу, потому что тот как стал перед гостем, выпуча глаза на его кровавое лицо и окровавленные руки с пучком денег в дрожавших пальцах, так и стоял, разиня рот от удивления и страха и, вероятно, мало понял изо всего того, что ему наказывал Митя.
– Ну, теперь пойдемте мыться, – сурово сказал Петр Ильич. – Положите деньги на стол али суньте в карман… Вот так, идем. Да снимите сюртук.
И он стал ему помогать снять сюртук и вдруг опять вскрикнул:
– Смотрите, у вас и сюртук в крови!
– Это… это не сюртук. Только немного тут у рукава… А это вот только здесь, где платок лежал. Из кармана просочилось. Я на платок-то у Фени сел, кровь-то и просочилась, – с какою-то удивительною доверчивостью тотчас же объяснил Митя. Петр Ильич выслушал, нахмурившись.
– Угораздило же вас; подрались, должно быть, с кем, – пробормотал он.
Начали мыться. Петр Ильич держал кувшин и подливал воду. Митя торопился и плохо было намылил руки. (Руки у него дрожали, как припомнил потом Петр Ильич.) Петр Ильич тотчас же велел намылить больше и тереть больше. Он как будто брал какой-то верх над Митей в эту минуту, чем дальше, тем больше. Заметим кстати: молодой человек был характера неробкого.
– Смотрите, не отмыли под ногтями; ну, теперь трите лицо, вот тут: на висках, у уха… Вы в этой рубашке и поедете? Куда это вы едете? Смотрите, весь обшлаг правого рукава в крови.
– Да, в крови, – заметил Митя, рассматривая обшлаг рубашки.
– Так перемените белье.
– Некогда. А я вот, вот видите… – продолжал с тою же доверчивостью Митя, уже вытирая полотенцем лицо и руки и надевая сюртук, – я вот здесь край рукава загну, его и не видно будет под сюртуком… Видите!
– Говорите теперь, где это вас угораздило? Подрались, что ли, с кем? Не в трактире ли опять, как тогда? Не опять ли с капитаном, как тогда, били его и таскали? – как бы с укоризною припомнил Петр Ильич. – Кого еще прибили… али убили, пожалуй?
– Вздор! – проговорил Митя.
– Как вздор?
– Не надо, – сказал Митя и вдруг усмехнулся. – Это я старушонку одну на площади сейчас раздавил.
– Раздавили? Старушонку?
– Старика! – крикнул Митя, смотря Петру Ильичу прямо в лицо, смеясь и крича ему как глухому.
– Э, черт возьми, старика, старушонку… Убили, что ли, кого?
– Помирились. Сцепились – и помирились. В одном месте. Разошлись приятельски. Один дурак… он мне простил… теперь уж наверно простил… Если бы встал, так не простил бы, – подмигнул вдруг Митя, – только знаете, к черту его, слышите, Петр Ильич, к черту, не надо! В сию минуту не хочу! – решительно отрезал Митя.
– Я ведь к тому, что охота же вам со всяким связываться… как тогда из пустяков с этим штабс-капитаном… Подрались и кутить теперь мчитесь – весь ваш характер. Три дюжины шампанского – это куда же столько?
– Браво! Давайте теперь пистолеты. Ей-богу, нет времени. И хотел бы с тобой поговорить, голубчик, да времени нет. Да и не надо вовсе, поздно говорить. А! где же деньги, куда я их дел? – вскрикнул он и принялся совать по карманам руки.
– На стол положили… сами… вон они лежат. Забыли? Подлинно деньги у вас точно сор аль вода. Вот ваши пистолеты. Странно, в шестом часу давеча заложил их за десять рублей, а теперь эвона у вас, тысяч-то. Две или три небось?
– Три небось, – засмеялся Митя, суя деньги в боковой карман панталон.
– Потеряете этак-то. Золотые прииски у вас, что ли?
– Прииски? Золотые прииски! – изо всей силы закричал Митя и закатился смехом. – Хотите, Перхотин, на прииски? Тотчас вам одна дама здесь три тысячи отсыплет, чтоб только ехали. Мне отсыпала, уж так она прииски любит! Хохлакову знаете?
– Незнаком, а слыхал и видал. Неужто это она вам три тысячи дала? Так и отсыпала? – недоверчиво глядел Петр Ильич.
– А вы завтра, как солнце взлетит, вечно юный-то Феб как взлетит, хваля и славя Бога, вы завтра пойдите к ней, к Хохлаковой-то, и спросите у ней сами: отсыпала она мне три тысячи али нет? Справьтесь-ка.
– Я не знаю ваших отношений… коли вы так утвердительно говорите, значит, дала… А вы денежки-то в лапки, да вместо Сибири-то, по всем по трем… Да куда вы в самом деле теперь, а?
– В Мокрое.
– В Мокрое? Да ведь ночь!
– Был Мастрюк во всем, стал Мастрюк ни в чем! – проговорил вдруг Митя.
– Как ни в чем? Это с такими-то тысячами, да ни в чем?
– Я не про тысячи, К черту тысячи! Я про женский нрав говорю:
Легковерен женский нрав
И изменчив, и порочен.
Я с Уллисом согласен, что он говорит.
– Не понимаю я вас!