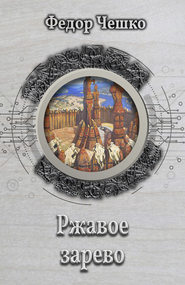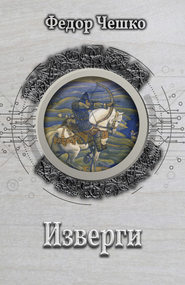По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Между степью и небом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дальше пускай сам топает. Не выбрасывать же…
Связать немца не удалось. Как только его опустили в пропитанную сыростью скудную лесную траву, “язык” внезапным мощным рывком вскинулся на ноги. Подростков расшвыряло, как взрывом; секундой позже, вскрикнув, покатился по земле Голубев, а немец с Голубевской винтовкой в руках бросился на Михаила.
Художник-недоучка и кадровый лейтенант не успел даже вспомнить о висящей на поясе кобуре. Единственно, что он успел – это шатнуться назад, но тусклый кинжалоподобный штык СВТ догнал его, тяжело клюнул в лоб… Мир перед глазами полыхнул многоцветным радостным фейерверком, однако Михаил каким-то чудом сумел-таки устоять, а устояв, пнуть сапогом почти растворившуюся в радужном мельканьи фигуру, а пнув, еще и попасть туда, куда метил.
Потом он сидел на холодном, мокром; девочка Маша бинтовала ему голову содержимым невесть откуда взявшегося индивидуального пакета; парнишки и Голубев, надсадно дыша, вязали немца, а тот дергался, пытаясь стряхнуть навалившихся вязальщиков, и мычал неразборчиво – рот его был плотно законопачен Машиной кепкой.
Вот именно потом, после драки-то, Михаилу очень здорово сообразилось, каким именно приемом или ударом следовало ему управиться с немцем, чтоб ловко, красиво, а главное – без ущерба для себя. Выходит, сопляческих времен драки с безжалостной по недоумкуватости сявотой – наука куда крепче, нежели занятия борьбой да боксом с классными училищными тренерами… Ладно. Все равно спасибо им, тренерам: не за приемы-удары, так хоть за быстроту да реакцию.
А Маша, между прочим, без кепки гляделась куда симпатичнее. И вообще… Потемневшая от моросной влаги рыжая стрижка, перепачканные щеки, распухший шмыгающий нос, льдинки запоздалого страха, мокреющие в синих глазах… Похожа она на кого-то, или уже приходилось встречаться с ней? Ой, не до размышлений-вспоминаний было героическому лейтенанту Рабоче-Крестьянской Красной…
…И всё-таки Михаилово сознание ухитрилось подловить своего хозяина: усыпило бдительность, и вдруг без предупреждения кинулось наутёк.
Вроде бы только что сидел более ли менее прямо, более ли менее сосредоточенно глядя в хмурое командирово лицо, как вдруг – отсырелая плащ-палаточная ткань промозгло липнет к виску, и ты всё крепче наваливаешься на нее, грозя обрушить хлипкое “штабное помещение” (полунавес, полушатёр)…
– Ты что?! – Ниношвили схватил Михаила за плечо, тряхнул. – Совсем плохо, да? Белкину звать?
– Не надо.
Михаил вновь утвердился на заменяющем стул сооружении из замызганного ватника и охапки хвороста; потом хотел было нагнуться за свалившейся под ноги фуражкой – не успел. Старший политрук сам подобрал, подал. И вновь повторил:
– Давай санинструктора позову, ну?
– Нет. – Михаил прилаживал фуражку на голове. – Давайте сначала с делами разберемся, товарищ комполка.
Ниношвили хмыкнул с сомнением, но настаивать прекратил. Буркнул что-то вроде: “Темно у нас, как в погребе, слушай!”; откинул полу распяленной на кривых сосновых жердях плащ-палатки; выглянул.
Снаружи было позднее ясное утро. Натужную пульсацию дальней канонады глушило свиристение каких-то пичуг, лениво шуршал в древесных верхушках вялый прозрачный ветер, похрустывал всяким лесным мусором часовой, бродивший по краю обширной колдобины, на дне которой притаился КП… Вот и все звуки. И поди догадайся, что находишься посреди днёвочного лагеря полка. Шестьдесят третьего. Отдельного. Общей численностью в семьдесят восемь человек, не считая тяжелораненных.
– Ладно. – Старший политрук хмурился, рассеянно теребил черную ниточку усов. – Оценку твоих действий, выяснение, почему ты не выполнил ни одну из поставленных задач – всё это пока отставим, да. Пока хочу твоё мнение. Выводы хочу. Говори!
Он очень старался не смотреть в глаза Михаилу, и Михаил был ему за это почти благодарен. Каждая их встреча становилась для обоих мучением. Довоенная дружба выветрилась за считанные недели боёв, окружения, прочего; новая линия взаимоотношений выработаться еще не успела… И, по-видимому, не успеет из-за всяких-разных грустных причин.
Михаил попытался сесть прямей и заговорил:
– Мнение и выводы? Слушаюсь. На основании увиденного напрашивается следующее… Немцы проанализировали действия отря… виноват, полка за последние несколько суток, рассчитали направление нашего движения и подготовили в окрестностях Чернохолмья ловушку. Западню. Полагаю, нас провоцируют на попытку ликвидации ремонтных мастерских, якобы оборудованных в МТС.
– Основания? – с прежней хмуростью осведомился Ниношвили. – И смысл?
– Основания… – механически повторил Михаил, – основания следующие. Первое: группа немцев, наблюдавшаяся нами близ машинно-тракторной станции. Тыловые подразделения обычно комплектуются не самым лучшим воинским материалом, а те гансы были как на племя подобраны. Фельджандарм оговорился, что вчера сюда прибыла команда эс-эс – это у них вроде наших войск НКВД… – он осекся, перехватив яростный взгляд политрука.
– Я знаю, что такое эс-эс. – процедил Ниношвили. – Давайте без лирики, то-ва-рищ лейтенант!
– Слушаюсь. Так вот, в эсэсовцы подбирают по физическим данным. Полагаю, у реки мы видели группу переодетых солдат особого назначения. Таким же физическим данным соответствует захваченный нами “язык”…
– Захваченный вопреки моему приказу, – прокомментировал старший политрук. – Дальше!
– Слушаюсь. Вто…
– Да что ты заладил это: “Слушаюсь, слушаюсь…” – раздраженно перебил Ниношвили, – ты не нижний чин, я не благородие! Докладывай как сознательный командир Красной Армии! Понял, нет?!
– Слу… То есть так точно, понял. Значит, второе: МТС. То, что мне известно про немецкую педантичность, “ордунг” и прочее, наводит на мысль: их мастерские работали бы или только в светлое время суток, или уж круглосуточно. Однако, когда мы возвращались, там было тихо…
Михаил понимал, что его аргументы политруком не воспринимаются, а тренированная наблюдательность художника – это для Зураба вообще не довод. Гудела-разламывалась голова, дико хотелось спать, дико хотелось, чтобы поскорей закончилась бесполезная говорильня, но…
Но.
Нужно было хоть попытаться убедить. Хоть для успокоения совести. Хоть для…
– Полагаю, противник счёл вероятным, что мы собираемся атаковать понтонную переправу, и решил предложить нам более заманчивый объект: плохоохраняемые мастерские, работающие на полную мощность. Для придания им значимости в наших глазах сымитировано прикрытие этого объекта зенитной батареей. Полагаю также, что противник засек меня и Голубева на пути продвижения к Чернохолмью и на обратном пути ненавязчиво подсказал нам удобное время для операции: дескать, перед рассветом МТС затихает, часовые спят – приходи да громи… Примечательно, что после захвата “языка”-часового его товарищи (политрука вновь передернуло, но Михаил уже на всё махнул рукой) рыпнулись было – я какой-то шумок слыхал – но не вмешались. Предпочли отдать его, но сохранить иллюзию своей беспечности. И уверены, что он при любых условиях будет молчать. Я, кстати, тоже в этом уверен.
– Всё, да? – нетерпеливо перебил Ниношвили.
– Так точно, всё – в общих чертах. – Михаил перевел дыхание, отер ладонью лицо, взмокревшее, словно бы от тяжких трудов.
– Считаю твои соображения бездоказательными! – Ниношвили выбрался из-под импровизированного навеса и заходил взад-вперед по дну штабной колдобины (собственное его вчерашнее выражение), яростно пиная подворачивающиеся на дороге хлыстики облыселых одуванчиков. – Считаю бездоказательными, да! Беспочвенными. И бесперспективными. Что ты вообще предлагаешь? Что конструктивного можно предложить, опираясь на твои домыслы? Говори, ну!
Михаил попытался было подняться всед за командиром, но тот оборвал эту попытку раздраженным взмахом руки. А сидя следить за метаниями старшего политрука оказалось превыше Михаиловых сил: от попыток вертеть головой в лад корчащему из себя маятник командиру таран во лбу принялся вытворять что-то уж вовсе немыслимое, горло переполнила вязкая горечь, окружающее подернулось тошнотворным маревом…
Михаил сцепил зубы и принялся смотреть прямо перед собой. На зачехленное знамя шестьдесят третьего отдельного. На гигантский лежачий сейф, служивший Зурабу то столом, то диваном – тяжеленный стальной монстр, единственное имущество полкового штаба, которое удалось спасти и которое старший политрук намеревался вынести из окружения любой ценой. Неподъемное страшилище уже стоило жизни двум упряжным лошадям, и черт знает каких усилий оно стоило и еще будет стоить людям – всё это казалось то обидным, то глупым, потому что ни один штабник не уцелел, а сейфовые ключи потерялись. Никто не знал, что за барахло тарахтит в бронированых недрах, когда этот сундук стаскивают наземь или громоздят обратно на приспособленный для его перевозки артиллерийский зарядный ящик. Сколько раз санинструктор Белкина докладывала Зурабу, что лошадей нехватает для перевозки раненных? Сколько раз Михаил терял терпение, доказывая, что опасно таскать за собой обременительную бесполезицу? Сколько, сколько… Бессчетно. А толку – шиш. “Сохранить – честь, бросить – позор, да!” – вот и весь ответ.
Такую же непобедимую привязанность когдатошний замполит приданной полку батареи, а ныне и.о. комполка Зураб Ниношвили испытывал к двум уцелевшим 76-милиметровым “дивизионкам”. Даже после того, как под Волховаткой пушкари расстреляли весь свой необильный боезапас, старший политрук упорно отказывался бросить онемевшие орудия. Именно из-за командирского упрямства недавнее форсирование получилось таким тяжелым и шумным. И таким кровавым. А могло получиться куда тяжелей да кровавей – это если бы не Михаил. Поняв, что рассвет застаёт медлительные неповоротливые плоты с пушками чуть ли не на середине реки, лейтенант до самого нутряного нутра допек Зураба утверждением, будто страх потерять орудия – гнилая отрыжка древней и косной золотопогонщины, когда “их благородия” ставили свою так называемую офицерскую честь и свой престиж выше солдатских жизней. Помогло: Зураб, тихо и злобно выбранившись, прокричал-таки артиллеристам приказ рубить скрепы плотовых бревен.
Именно тем сереньким предрассветьем, глядя, как под траурный салют догорающей на западном берегу перестрелки оседают, проваливаются в ленивую речную муть неуклюжие потрепанные “дивизионки”, Михаил окончательно понял: не то, что дружбе, а и просто более-менее терпимым отношениям с Зурабом настаёт конец. И так уже старший политрук частенько намекал… да нет, какие уж тут намеки – он не раз говорил открыто и прямо, что Михаил оценивает обстановку не как командир, а как мягкотелый запаниковавший интеллигент, что переоценка противника есть разновидность пораженческих настроений, что от неверия в близкую победу рукой подать до предательства… А теперь вопреки всему – логике, справедливости, прочему – Ниношвили еще больше укрепится во всяческих своих прежних подозрениях. И придумает подозрения новые. Всяческие. Разнообразные. Потому, что когдатошнего друга он теперь ненавидит.
Бывший замполит артбатареи стоял в верткой узенькой плоскодонке рядом с Михаилом и тоже смотрел на гибель пушек. Смотрел и плакал. Громко, взахлеб. Не стыдясь.
…Предобморочная тошнота мало-помалу стронулась на убыль. Михаил уже почти вернул себе способность видеть и понимать; он уже довольно-таки четко различал окружающее – например, многочисленные царапины на боку проклятого несгораемого ящика и полуперекрытое грубо намалёванным инвентарным номером клеймо: “Кrauze und Sohn, 1937, Hamburg”. Прямо насмешка какая-то…
– …не понимает, куда ты клонишь, да? Напрасно думаешь, Нонишвили всё понимает! – Оказывается, старший политрук уже стоял совсем рядом, и его обличительные слова гвоздями вколачивались в как бы вдруг откупорившиеся уши Михаила:
– Очень хочу надеяться, что ты это неосознанно, понимаешь? Что это неосознанная трусость. Пока буду надеяться, а ты должен мне доказать, что я всё-таки не ошибся! Очень доказать должен – понял, да?
Михаил с трудом повернул голову и снизу вверх мутно уставился на и.о. комполка. Раненный лейтенант так мучительно сморщился в попытке доскрипеться до смысла услышанного, что Зураб, вздохнув длинно и тяжко, принялся повторять всё сначала:
– Ну, сам вдумайся в каждый из твоих доводов! Ведь сплошные “похоже”, “вроде бы”, “кажется”, ну? Ну?!
– Каждый в отдельности – да, – просипел Михаил. – Но всё совокупно…
– Да что “совокупно”?! Что?! – Ниношвили возобновил своё хожденье туда-сюда. – Ты же сам постоянно упрекаешь меня, будто я недооцениваю противника! А теперь?! Думаешь, немцы совсем идиоты – затевать такие хитрые хитрости ради… ради ликвидации малочисленной группы окруженцев?! – Выговорить эти последние слова старшему политруку удалось лишь ценой немалых усилий, но не скажешь же “малочисленный полк”! – А часовой? – продолжал Зураб, всё заметней взвинчивая себя. – При любых условиях будет молчать – надо же! Ты уж до самой последней черты докатился: эсэсовцев равняешь с НКВД, немецкую солдатню товарищами назвал, а теперь уже готов приписать гитлеровцу самопожертвование и стойкость сознательного большевика! Да?!
Михаил скрипнул зубами, но заговорил довольно спокойно – это несмотря на злость и вымучивающую боль:
– Пойми… те, товарищ комполка: немцы не считают нас заурядными окруженцами, пробирающимися к линии фронта! Вспомните хоть Волховатский аэродром! И Узловую тоже… И другое всякое…
…Да уж, Волховатский аэродром… На довоенной карте он был обозначен, как районная база сельскохозяйственной авиации, а на деле немцы успели приспособить его для своих фронтовых бомбардировщиков.
Задуманная старшим политруком несусветная дерзость прошла великолепно. Правда, великолепию этому изрядно помогло удачное стечение разнообразных случайностей – так что ж с того? Кажется, это Наполеон говорил: “Случай всегда на стороне больших батальонов”? Наверное, так и есть – даже если “большие батальоны” не числом велики.
Связать немца не удалось. Как только его опустили в пропитанную сыростью скудную лесную траву, “язык” внезапным мощным рывком вскинулся на ноги. Подростков расшвыряло, как взрывом; секундой позже, вскрикнув, покатился по земле Голубев, а немец с Голубевской винтовкой в руках бросился на Михаила.
Художник-недоучка и кадровый лейтенант не успел даже вспомнить о висящей на поясе кобуре. Единственно, что он успел – это шатнуться назад, но тусклый кинжалоподобный штык СВТ догнал его, тяжело клюнул в лоб… Мир перед глазами полыхнул многоцветным радостным фейерверком, однако Михаил каким-то чудом сумел-таки устоять, а устояв, пнуть сапогом почти растворившуюся в радужном мельканьи фигуру, а пнув, еще и попасть туда, куда метил.
Потом он сидел на холодном, мокром; девочка Маша бинтовала ему голову содержимым невесть откуда взявшегося индивидуального пакета; парнишки и Голубев, надсадно дыша, вязали немца, а тот дергался, пытаясь стряхнуть навалившихся вязальщиков, и мычал неразборчиво – рот его был плотно законопачен Машиной кепкой.
Вот именно потом, после драки-то, Михаилу очень здорово сообразилось, каким именно приемом или ударом следовало ему управиться с немцем, чтоб ловко, красиво, а главное – без ущерба для себя. Выходит, сопляческих времен драки с безжалостной по недоумкуватости сявотой – наука куда крепче, нежели занятия борьбой да боксом с классными училищными тренерами… Ладно. Все равно спасибо им, тренерам: не за приемы-удары, так хоть за быстроту да реакцию.
А Маша, между прочим, без кепки гляделась куда симпатичнее. И вообще… Потемневшая от моросной влаги рыжая стрижка, перепачканные щеки, распухший шмыгающий нос, льдинки запоздалого страха, мокреющие в синих глазах… Похожа она на кого-то, или уже приходилось встречаться с ней? Ой, не до размышлений-вспоминаний было героическому лейтенанту Рабоче-Крестьянской Красной…
…И всё-таки Михаилово сознание ухитрилось подловить своего хозяина: усыпило бдительность, и вдруг без предупреждения кинулось наутёк.
Вроде бы только что сидел более ли менее прямо, более ли менее сосредоточенно глядя в хмурое командирово лицо, как вдруг – отсырелая плащ-палаточная ткань промозгло липнет к виску, и ты всё крепче наваливаешься на нее, грозя обрушить хлипкое “штабное помещение” (полунавес, полушатёр)…
– Ты что?! – Ниношвили схватил Михаила за плечо, тряхнул. – Совсем плохо, да? Белкину звать?
– Не надо.
Михаил вновь утвердился на заменяющем стул сооружении из замызганного ватника и охапки хвороста; потом хотел было нагнуться за свалившейся под ноги фуражкой – не успел. Старший политрук сам подобрал, подал. И вновь повторил:
– Давай санинструктора позову, ну?
– Нет. – Михаил прилаживал фуражку на голове. – Давайте сначала с делами разберемся, товарищ комполка.
Ниношвили хмыкнул с сомнением, но настаивать прекратил. Буркнул что-то вроде: “Темно у нас, как в погребе, слушай!”; откинул полу распяленной на кривых сосновых жердях плащ-палатки; выглянул.
Снаружи было позднее ясное утро. Натужную пульсацию дальней канонады глушило свиристение каких-то пичуг, лениво шуршал в древесных верхушках вялый прозрачный ветер, похрустывал всяким лесным мусором часовой, бродивший по краю обширной колдобины, на дне которой притаился КП… Вот и все звуки. И поди догадайся, что находишься посреди днёвочного лагеря полка. Шестьдесят третьего. Отдельного. Общей численностью в семьдесят восемь человек, не считая тяжелораненных.
– Ладно. – Старший политрук хмурился, рассеянно теребил черную ниточку усов. – Оценку твоих действий, выяснение, почему ты не выполнил ни одну из поставленных задач – всё это пока отставим, да. Пока хочу твоё мнение. Выводы хочу. Говори!
Он очень старался не смотреть в глаза Михаилу, и Михаил был ему за это почти благодарен. Каждая их встреча становилась для обоих мучением. Довоенная дружба выветрилась за считанные недели боёв, окружения, прочего; новая линия взаимоотношений выработаться еще не успела… И, по-видимому, не успеет из-за всяких-разных грустных причин.
Михаил попытался сесть прямей и заговорил:
– Мнение и выводы? Слушаюсь. На основании увиденного напрашивается следующее… Немцы проанализировали действия отря… виноват, полка за последние несколько суток, рассчитали направление нашего движения и подготовили в окрестностях Чернохолмья ловушку. Западню. Полагаю, нас провоцируют на попытку ликвидации ремонтных мастерских, якобы оборудованных в МТС.
– Основания? – с прежней хмуростью осведомился Ниношвили. – И смысл?
– Основания… – механически повторил Михаил, – основания следующие. Первое: группа немцев, наблюдавшаяся нами близ машинно-тракторной станции. Тыловые подразделения обычно комплектуются не самым лучшим воинским материалом, а те гансы были как на племя подобраны. Фельджандарм оговорился, что вчера сюда прибыла команда эс-эс – это у них вроде наших войск НКВД… – он осекся, перехватив яростный взгляд политрука.
– Я знаю, что такое эс-эс. – процедил Ниношвили. – Давайте без лирики, то-ва-рищ лейтенант!
– Слушаюсь. Так вот, в эсэсовцы подбирают по физическим данным. Полагаю, у реки мы видели группу переодетых солдат особого назначения. Таким же физическим данным соответствует захваченный нами “язык”…
– Захваченный вопреки моему приказу, – прокомментировал старший политрук. – Дальше!
– Слушаюсь. Вто…
– Да что ты заладил это: “Слушаюсь, слушаюсь…” – раздраженно перебил Ниношвили, – ты не нижний чин, я не благородие! Докладывай как сознательный командир Красной Армии! Понял, нет?!
– Слу… То есть так точно, понял. Значит, второе: МТС. То, что мне известно про немецкую педантичность, “ордунг” и прочее, наводит на мысль: их мастерские работали бы или только в светлое время суток, или уж круглосуточно. Однако, когда мы возвращались, там было тихо…
Михаил понимал, что его аргументы политруком не воспринимаются, а тренированная наблюдательность художника – это для Зураба вообще не довод. Гудела-разламывалась голова, дико хотелось спать, дико хотелось, чтобы поскорей закончилась бесполезная говорильня, но…
Но.
Нужно было хоть попытаться убедить. Хоть для успокоения совести. Хоть для…
– Полагаю, противник счёл вероятным, что мы собираемся атаковать понтонную переправу, и решил предложить нам более заманчивый объект: плохоохраняемые мастерские, работающие на полную мощность. Для придания им значимости в наших глазах сымитировано прикрытие этого объекта зенитной батареей. Полагаю также, что противник засек меня и Голубева на пути продвижения к Чернохолмью и на обратном пути ненавязчиво подсказал нам удобное время для операции: дескать, перед рассветом МТС затихает, часовые спят – приходи да громи… Примечательно, что после захвата “языка”-часового его товарищи (политрука вновь передернуло, но Михаил уже на всё махнул рукой) рыпнулись было – я какой-то шумок слыхал – но не вмешались. Предпочли отдать его, но сохранить иллюзию своей беспечности. И уверены, что он при любых условиях будет молчать. Я, кстати, тоже в этом уверен.
– Всё, да? – нетерпеливо перебил Ниношвили.
– Так точно, всё – в общих чертах. – Михаил перевел дыхание, отер ладонью лицо, взмокревшее, словно бы от тяжких трудов.
– Считаю твои соображения бездоказательными! – Ниношвили выбрался из-под импровизированного навеса и заходил взад-вперед по дну штабной колдобины (собственное его вчерашнее выражение), яростно пиная подворачивающиеся на дороге хлыстики облыселых одуванчиков. – Считаю бездоказательными, да! Беспочвенными. И бесперспективными. Что ты вообще предлагаешь? Что конструктивного можно предложить, опираясь на твои домыслы? Говори, ну!
Михаил попытался было подняться всед за командиром, но тот оборвал эту попытку раздраженным взмахом руки. А сидя следить за метаниями старшего политрука оказалось превыше Михаиловых сил: от попыток вертеть головой в лад корчащему из себя маятник командиру таран во лбу принялся вытворять что-то уж вовсе немыслимое, горло переполнила вязкая горечь, окружающее подернулось тошнотворным маревом…
Михаил сцепил зубы и принялся смотреть прямо перед собой. На зачехленное знамя шестьдесят третьего отдельного. На гигантский лежачий сейф, служивший Зурабу то столом, то диваном – тяжеленный стальной монстр, единственное имущество полкового штаба, которое удалось спасти и которое старший политрук намеревался вынести из окружения любой ценой. Неподъемное страшилище уже стоило жизни двум упряжным лошадям, и черт знает каких усилий оно стоило и еще будет стоить людям – всё это казалось то обидным, то глупым, потому что ни один штабник не уцелел, а сейфовые ключи потерялись. Никто не знал, что за барахло тарахтит в бронированых недрах, когда этот сундук стаскивают наземь или громоздят обратно на приспособленный для его перевозки артиллерийский зарядный ящик. Сколько раз санинструктор Белкина докладывала Зурабу, что лошадей нехватает для перевозки раненных? Сколько раз Михаил терял терпение, доказывая, что опасно таскать за собой обременительную бесполезицу? Сколько, сколько… Бессчетно. А толку – шиш. “Сохранить – честь, бросить – позор, да!” – вот и весь ответ.
Такую же непобедимую привязанность когдатошний замполит приданной полку батареи, а ныне и.о. комполка Зураб Ниношвили испытывал к двум уцелевшим 76-милиметровым “дивизионкам”. Даже после того, как под Волховаткой пушкари расстреляли весь свой необильный боезапас, старший политрук упорно отказывался бросить онемевшие орудия. Именно из-за командирского упрямства недавнее форсирование получилось таким тяжелым и шумным. И таким кровавым. А могло получиться куда тяжелей да кровавей – это если бы не Михаил. Поняв, что рассвет застаёт медлительные неповоротливые плоты с пушками чуть ли не на середине реки, лейтенант до самого нутряного нутра допек Зураба утверждением, будто страх потерять орудия – гнилая отрыжка древней и косной золотопогонщины, когда “их благородия” ставили свою так называемую офицерскую честь и свой престиж выше солдатских жизней. Помогло: Зураб, тихо и злобно выбранившись, прокричал-таки артиллеристам приказ рубить скрепы плотовых бревен.
Именно тем сереньким предрассветьем, глядя, как под траурный салют догорающей на западном берегу перестрелки оседают, проваливаются в ленивую речную муть неуклюжие потрепанные “дивизионки”, Михаил окончательно понял: не то, что дружбе, а и просто более-менее терпимым отношениям с Зурабом настаёт конец. И так уже старший политрук частенько намекал… да нет, какие уж тут намеки – он не раз говорил открыто и прямо, что Михаил оценивает обстановку не как командир, а как мягкотелый запаниковавший интеллигент, что переоценка противника есть разновидность пораженческих настроений, что от неверия в близкую победу рукой подать до предательства… А теперь вопреки всему – логике, справедливости, прочему – Ниношвили еще больше укрепится во всяческих своих прежних подозрениях. И придумает подозрения новые. Всяческие. Разнообразные. Потому, что когдатошнего друга он теперь ненавидит.
Бывший замполит артбатареи стоял в верткой узенькой плоскодонке рядом с Михаилом и тоже смотрел на гибель пушек. Смотрел и плакал. Громко, взахлеб. Не стыдясь.
…Предобморочная тошнота мало-помалу стронулась на убыль. Михаил уже почти вернул себе способность видеть и понимать; он уже довольно-таки четко различал окружающее – например, многочисленные царапины на боку проклятого несгораемого ящика и полуперекрытое грубо намалёванным инвентарным номером клеймо: “Кrauze und Sohn, 1937, Hamburg”. Прямо насмешка какая-то…
– …не понимает, куда ты клонишь, да? Напрасно думаешь, Нонишвили всё понимает! – Оказывается, старший политрук уже стоял совсем рядом, и его обличительные слова гвоздями вколачивались в как бы вдруг откупорившиеся уши Михаила:
– Очень хочу надеяться, что ты это неосознанно, понимаешь? Что это неосознанная трусость. Пока буду надеяться, а ты должен мне доказать, что я всё-таки не ошибся! Очень доказать должен – понял, да?
Михаил с трудом повернул голову и снизу вверх мутно уставился на и.о. комполка. Раненный лейтенант так мучительно сморщился в попытке доскрипеться до смысла услышанного, что Зураб, вздохнув длинно и тяжко, принялся повторять всё сначала:
– Ну, сам вдумайся в каждый из твоих доводов! Ведь сплошные “похоже”, “вроде бы”, “кажется”, ну? Ну?!
– Каждый в отдельности – да, – просипел Михаил. – Но всё совокупно…
– Да что “совокупно”?! Что?! – Ниношвили возобновил своё хожденье туда-сюда. – Ты же сам постоянно упрекаешь меня, будто я недооцениваю противника! А теперь?! Думаешь, немцы совсем идиоты – затевать такие хитрые хитрости ради… ради ликвидации малочисленной группы окруженцев?! – Выговорить эти последние слова старшему политруку удалось лишь ценой немалых усилий, но не скажешь же “малочисленный полк”! – А часовой? – продолжал Зураб, всё заметней взвинчивая себя. – При любых условиях будет молчать – надо же! Ты уж до самой последней черты докатился: эсэсовцев равняешь с НКВД, немецкую солдатню товарищами назвал, а теперь уже готов приписать гитлеровцу самопожертвование и стойкость сознательного большевика! Да?!
Михаил скрипнул зубами, но заговорил довольно спокойно – это несмотря на злость и вымучивающую боль:
– Пойми… те, товарищ комполка: немцы не считают нас заурядными окруженцами, пробирающимися к линии фронта! Вспомните хоть Волховатский аэродром! И Узловую тоже… И другое всякое…
…Да уж, Волховатский аэродром… На довоенной карте он был обозначен, как районная база сельскохозяйственной авиации, а на деле немцы успели приспособить его для своих фронтовых бомбардировщиков.
Задуманная старшим политруком несусветная дерзость прошла великолепно. Правда, великолепию этому изрядно помогло удачное стечение разнообразных случайностей – так что ж с того? Кажется, это Наполеон говорил: “Случай всегда на стороне больших батальонов”? Наверное, так и есть – даже если “большие батальоны” не числом велики.
Другие электронные книги автора Федор Федорович Чешко
Изверги




 0
0