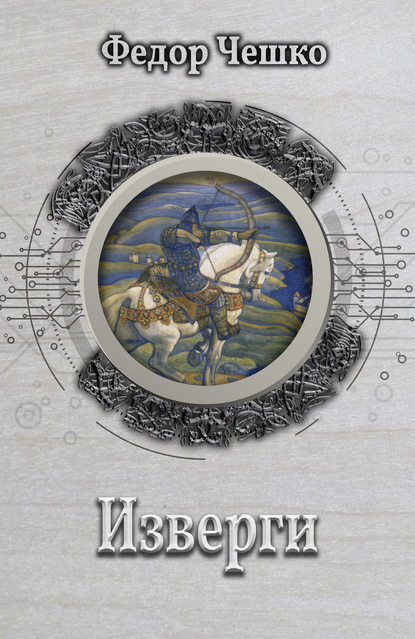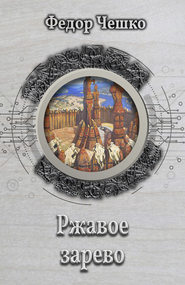По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Изверги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кудеслав немногим дольше ее задержался возле людоедовой туши. Наскоро обтер вызволенный меч сперва о медвежью шерсть, потом – медвежьим же салом; отмахнулся от подобострастного аханья хранильниковых сыновей и заторопился прочь до того поспешно, что даже рогатину забыл – вспомнил о ней, лишь покорно усаживаясь рядом с Белоконем (ну вот, теперь еще от Велимира на орехи достанется: шкуру не взял, оружие не сберег… одно слово – Урман железноголовый!).
Очень хотелось Мечнику уехать, не видясь с волхвом. Татем украдливым проскользнул через двор, торопливо оседлал да вывел коня… Ан углядел же хранильник, в самый последний миг завернул. Ведун старый… Ишь, зыркает, будто ворон на разлитое варево: лакомо, а не склюнешь…
– Ну, так что же? – с прежним ехидством подначил Белоконь, выждав, пока Мечник усядется. – Векша-то хорошо ли тебя отблагодарила? Уж скажи…
– Да холодновато еще, чтобы прямо в лесу, на сырой земле заниматься этакими благодарностями, – попробовал отшутиться Кудеслав.
Волхв прищурился:
– Не скажи! Дело-то жаркое, за ним и в настоящую стужу не вдруг озябнешь!
– Жаркое, да не настолько.
– А тебе, неженатому, откуда может быть ведомо, настолько или не настолько? – вновь прищурился Белоконь.
– Чтоб такое изведать, собственную жену иметь не обязательно – на крайний случай и чужая сгодится… – Мечник прикусил язык, но глупые слова уже сорвались. Дошутился.
Волхв вдруг захохотал, да так раскатисто, что бродивший по двору конь прянул и оглянулся.
– Вот теперь вижу, что ничего для меня огорчительного меж вами не случилось, – с трудом выговорил хранильник, утирая слезы. – Не то бы ты, чем подобное ляпнуть, скорей вот это бревно проглотил!
Отсмеявшись, Белоконь посерьезнел:
– Шутки шутками, а только не хочу, чтобы это впредь между нами стояло. Вот слушай: нынче ночью я тебе о Векше и о замыслах своих рассказывал почти так, как оно все на самом деле. Почти, да не совсем. Думалось мне, будто если бы у нее родился от меня сын, то уж он-то… У нее ведь и впрямь немалая ведовская сила. У нее да у меня… Удайся сын хоть в мать, хоть в отца, хоть в обоих родителей разом – все едино был бы ведун. Вот из него-то я и воспитал бы себе…
– Так как же ты не побоялся гнать ее в лес на ночь глядя? И зачем мальцом вырядил?
– Погнал потому, что больше гнать было некого, – развел руками хранильник. – Мужиков не хватило; моих же тюх на такое и упряжкой не сдвинешь. А мальцом обрядил от страха. Ну, чего смотришь? На мне, чай, узоры не намалеваны.
– Это кого же ты убоялся? – еле сумел выговорить ошарашенный Кудеслав.
Белоконь криво усмехнулся:
– Кого? А ты сядь покрепче да еще руками ухватись за колоду, тогда скажу… – Он глубоко вздохнул и вдруг брякнул чуть ли не зажмурясь: – Тебя, вот кого я боялся!
Пожалуй, Мечник бы все-таки не упал, даже если бы по Белоконеву совету не ухватился за бревно руками. Но ждал он чего угодно, кроме того, что довелось услыхать. А волхв продолжал:
– Свою-то долю предугадывать мне не дано, а вот Векшину я доподлинно вызнал. И твою тоже. Не минуть вам с нею друг друга, никак не минуть. А я, дурень старый… Веришь ли, до того она меня раззадорила – пытался судьбу обмануть, отвести тебе глаза от Векши-то. Как твой приезд, я ее в амбаре прятал или еще где придется… А она все равно тебя как-то высмотрела, исхитрилась-таки… Ведь нешто с долей поспоришь? Доля – она все по-своему ломит, да как! Чем сильнее противишься, тем больней, с костяным хрустом, с кровушкой… Людоед, верно, и впрямь послан мне в наказание. Заставила-таки судьба меня, строптивца, тебя да Векшу свести. Ценой сынова увечья заставила. Так что теперь уже вижу: никак по-моему не бывать. А и пускай себе, – махнул он вдруг рукой с деланной беспечностью. – И так от нее одно беспокойство. С тобой вот друг на друга было стали косо глядеть… Бабы мои вообразили, что молодая да любая непременно свой порядок в избе заведет, над ними поднимется – особенно ежели родит-таки мне сына…
Хранильник вдруг трескуче хлопнул Кудеслава по плечу:
– Забирай купленную, слышишь? Дарю! Только… – Глаза Белоконя заискрились вдруг хитрой усметкой. – Только есть у меня такое условие: чтобы жить вам не у Велимира, а здесь. Понял? Иначе не отдам. Вот и думай, торопить не стану. Но чтоб сына-первенца мне в воспитание! Оно поди и так не худо получится: от молодого отца дети куда крепче будут, чем от меня, сыча старого. А ведовской силой и ты не обижен.
Кудеслав молча глядел на него. А что говорить? Жалко старика, но вслух ему такого не скажешь.
Белоконь тем временем перевел дух, расправил усы и вдруг захихикал:
– Ее ведь не я у хазар купил. Знаешь кто? Ах, знаешь… Вот же недоперок желторотый – задумал родителя провести! Он ее на болотном островке в шалаше прятал. Что ни день – исчезать повадился, еду куда-то таскает… Думал, никто не видит! Ну, я молчу, жду, что будет дальше. А он… чуть не сгубил девку дурень! Ну, известное дело: холод, проголодь, болотная сырость – ослабла телом, простудилась, да так, что не рожать ей… Он дня два-три молчал (видать, надеялся, что как-нибудь сама оклемается), а потом приходит ко мне и начинает: «Вот ежели бы у бабы такая да такая хворь приключилась и ежели бы тебе из такой бабы пришлось такую хворь изгонять, так как бы ты…». Ну, я, не дослушавши, за ухо его: «Веди, говорю, щучий сын, показывай!». На день бы позже тогда подоспел, и не видать тебе этой рыжей…
Он замолчал.
Кудеслав тоже помалкивал, грызя губы. Видел он, что все эти разговоры о преемнике, которому бы не страшно вверить святилище… конечно, они наверняка правдивы, но… Вот теперь-то Мечник чувствовал себя злодеем, обокравшим лучшего друга, почти отца. Мало ли что там на роду написано! Оторвать от сердца последнюю свою, может быть, самую крепкую любовь; со смешками да прибаутками (это когда душа поди волком воет!) отдать ее другому и взамен потребовать лишь, чтоб позволили воспитывать сына, отцом которого мечтал бы сделаться сам… Предложить собственный кров ухитителю своей любви, чтоб было ему где тешиться добычей…
Прежде Кудеслав смел почитать хранильника другом-приятелем, смел мнить себя едва ли не равным. А теперь… Миг назад старец, сам того не ведая, совершил великое ведовство: несколько деланно усмешливых слов, и Мечник предался ему душою и телом – беззаветно и навсегда. То, что во время схватки с людоедом Белоконь был готов в любое мгновение прийти на помощь другу, рискуя навлечь на себя и своих неискупимое проклятье богов, – это не шибко-то проняло Кудеслава: на месте волхва он поступил бы так же. Но вот решиться на что-либо равное нынешнему Белоконеву подарку… Нет, не осмелился Мечник спросить себя: «А ты? Даже зная, что поперек судьбы не проломишься, – смог бы?».
Так что скажи нынче волхв: «Ну-ка, друг душевный, развали головою вон тот дубок!» – Кудеслав, пожалуй, задумался бы лишь на миг (и то над тем, с разбегу ли надо биться о дерево, либо в прыжке).
Мечник и сам еще не почувствовал, что ощущение нечаянной виноватости крепче прежнего и по-иному, чем прежде, связало его со старым хранильником. Он лишь одно понял: постылое, однако привычное холостяцкое да неприкаянное житье круто ломается. Понял – и внезапно испугался этой перемены. Но выдать свой испуг хоть Белоконю, хоть кому еще – это уж и впрямь лучше головою о дуб. С разбегу. Либо в прыжке.
– Ну, поговорили и будет. – Волхв тяжело поднялся. – Еще раз благодарствую тебе, что отмстил за две жизни людские да за Гордеево увечье.
Он низко – в пояс – поклонился Кудеславу. Тот поспешно вскочил и хотел было отдать поклон, но хранильник помешал, коснувшись кончиками пальцев его лба:
– А тебе меня благодарить не за что. Кабы не дурость моя, так, может, и не пришлось бы тебе с людоедом-то… Что же до Векши – сам теперь понимаешь: была б на то моя воля, не видать бы вам друг друга, как собственных спин. Да, может, еще и проклянешь меня, старика, не раз за подобный подарочек. Норов-то у нее – ой-ей-ей!
Белоконь отвернулся, зашагал к избе, и Мечник поспешил следом.
– А коня расседлай покуда, – говорил волхв на ходу. – Сейчас поедим, да вместе и отправимся: у меня к Яромиру дело. Шкуру людоедову с собой повезешь – в отдарок названому отцу за рогатину… Милонега сейчас к сынам моим лошадь погонит – у них уговорено, – так я ей накажу проследить, чтоб они и Велимирово оружие прихватили; ты-то, вижу, в спешке забыл, а они могут вообразить, будто так и надо. О чем я?.. Да, значит, в град вместе поедем. Ну, и Векшу с собой возьмем.
– Векшу-то зачем? – спросил Кудеслав. – Ей бы спать, ведь две ночи на ногах промаялась.
– Ей тут без меня все едино покою не дадут, заедят. Ничего, у старейшины вашего отоспится.
Уже готовясь ступить через порог избы, Белоконь сказал:
– Коли будет на то твоя воля, хоть завтра же отпрошу тебя к себе и у Яромира, и у Лисовина. А об отцовом очаге не сокрушайся: камень из него вывернешь да с собой привезешь – то и ладно.
4
Давненько уже не приходилось Кудеславу столько тесать языком – почитай, с тех пор, как воротился из своего бродяжничания по чужедальним краям. Тогда многое пришлось рассказать сородичам – и в общинной избе, перед очами старейшины да наиболее чтимых родовичей, и во всяких других избах (наперебой зазывали, чуть ли не дрались за то, чей нынешним вечером приходит черед принимать его у себя).
Люди, большинству из которых путь на Торжище казался невесть каким дальним странствием, забывали дышать, слушая невероятные сказки о разных языках, живущих вдоль реки Волглы; о сумрачной земле драчливых урманов; о теплом море, по берегам которого обитают поклоняющиеся неугасимому пламени персы-мидийцы; о других теплых морях, которых и сам Кудеслав не видел, зато слыхал про них много чего от своих скандийских знакомцев…
И сотой доли не было рассказано из того, о чем можно было бы рассказать. Но не потому, что рассказы наскучили слушателям, – это самому Кудеславу довольно быстро наскучило быть рассказчиком. Отчасти из-за бессилия передать словами виданное и пережитое, отчасти потому, что нередко его понимали странно или не понимали вообще. А главное – ведь не ради же распахнутых от удивления ртов сородичей поддался Мечник на уговоры урманских торговцев-воителей! Не ради удивления родовичей, не ради добычи, не ради возможности вдоволь наиграться оружием в неведомых дальних краях и даже не ради возможности эти самые края повидать. А ради чего? Если бы кто дознался, что Кудеслав по сию пору так и не успел найти ответ на этот вопрос, – вовсе пустоголовым прослыл бы в общине Мечник, обижающийся на прозвание Урман.
Рассказы ему опостылели, а потому стали неинтересными. К тому же старики принялись ворчать, что Кудеслав дурит головы желторотым юнцам, что этак все по дальним землям поразбегаются, а община оскудеет людьми да вымрет… Поток приглашений пошел на убыль.
Последних, самых прилипчивых, Велимир живо отвадил от своего двора, за что Мечник был несказанно благодарен своему названому отцу. Года не прошло, как Кудеславу перестали заглядывать в рот – вместо этого стали шушукаться за спиной. Дескать, непоседливый человек, ненадежный. В отцовой избе живет, ровно из милости принятый захребетник; дрова вместо топора мечом колет; охотник неважный; до первой седины дожил неженатым… Одно слово – Урман.
И вот нынче затеялось, будто в те, прежние, времена. Спасибо, хоть дали выспаться за обе бессонные ночи.
И Велимиру спасибо.
Когда Кудеслав, распрощавшись на ночь с Белоко-нем и Векшей, ввел коня в Велимиров дворик, на град уже навалилась густая темень. Мгновенье-другое Мечник промешкал, бездумно вслушиваясь в удаляющийся копытный топот (по, в общем-то, понятным причинам хранильник желал ночевать непременно у старейшины, хоть у того не просторней многих, а уж волхва-то с радостью примут в любой избе, пожелай он хоть до крепкого тепла поселиться).
Наконец Мечник встряхнулся и взялся было расседлывать заморенного коня, но тут с протяжной заунывной жалобой распахнулась избяная дверь и на пороге появился сонно помаргивающий Велимир – в сапогах, в накинутом на голое тело полушубке (это то есть в одних только сапогах да полушубке) и с лучиной в руке.
– Живой, что ли? – позевывая, спросил Лисовин.
Очень хотелось Мечнику уехать, не видясь с волхвом. Татем украдливым проскользнул через двор, торопливо оседлал да вывел коня… Ан углядел же хранильник, в самый последний миг завернул. Ведун старый… Ишь, зыркает, будто ворон на разлитое варево: лакомо, а не склюнешь…
– Ну, так что же? – с прежним ехидством подначил Белоконь, выждав, пока Мечник усядется. – Векша-то хорошо ли тебя отблагодарила? Уж скажи…
– Да холодновато еще, чтобы прямо в лесу, на сырой земле заниматься этакими благодарностями, – попробовал отшутиться Кудеслав.
Волхв прищурился:
– Не скажи! Дело-то жаркое, за ним и в настоящую стужу не вдруг озябнешь!
– Жаркое, да не настолько.
– А тебе, неженатому, откуда может быть ведомо, настолько или не настолько? – вновь прищурился Белоконь.
– Чтоб такое изведать, собственную жену иметь не обязательно – на крайний случай и чужая сгодится… – Мечник прикусил язык, но глупые слова уже сорвались. Дошутился.
Волхв вдруг захохотал, да так раскатисто, что бродивший по двору конь прянул и оглянулся.
– Вот теперь вижу, что ничего для меня огорчительного меж вами не случилось, – с трудом выговорил хранильник, утирая слезы. – Не то бы ты, чем подобное ляпнуть, скорей вот это бревно проглотил!
Отсмеявшись, Белоконь посерьезнел:
– Шутки шутками, а только не хочу, чтобы это впредь между нами стояло. Вот слушай: нынче ночью я тебе о Векше и о замыслах своих рассказывал почти так, как оно все на самом деле. Почти, да не совсем. Думалось мне, будто если бы у нее родился от меня сын, то уж он-то… У нее ведь и впрямь немалая ведовская сила. У нее да у меня… Удайся сын хоть в мать, хоть в отца, хоть в обоих родителей разом – все едино был бы ведун. Вот из него-то я и воспитал бы себе…
– Так как же ты не побоялся гнать ее в лес на ночь глядя? И зачем мальцом вырядил?
– Погнал потому, что больше гнать было некого, – развел руками хранильник. – Мужиков не хватило; моих же тюх на такое и упряжкой не сдвинешь. А мальцом обрядил от страха. Ну, чего смотришь? На мне, чай, узоры не намалеваны.
– Это кого же ты убоялся? – еле сумел выговорить ошарашенный Кудеслав.
Белоконь криво усмехнулся:
– Кого? А ты сядь покрепче да еще руками ухватись за колоду, тогда скажу… – Он глубоко вздохнул и вдруг брякнул чуть ли не зажмурясь: – Тебя, вот кого я боялся!
Пожалуй, Мечник бы все-таки не упал, даже если бы по Белоконеву совету не ухватился за бревно руками. Но ждал он чего угодно, кроме того, что довелось услыхать. А волхв продолжал:
– Свою-то долю предугадывать мне не дано, а вот Векшину я доподлинно вызнал. И твою тоже. Не минуть вам с нею друг друга, никак не минуть. А я, дурень старый… Веришь ли, до того она меня раззадорила – пытался судьбу обмануть, отвести тебе глаза от Векши-то. Как твой приезд, я ее в амбаре прятал или еще где придется… А она все равно тебя как-то высмотрела, исхитрилась-таки… Ведь нешто с долей поспоришь? Доля – она все по-своему ломит, да как! Чем сильнее противишься, тем больней, с костяным хрустом, с кровушкой… Людоед, верно, и впрямь послан мне в наказание. Заставила-таки судьба меня, строптивца, тебя да Векшу свести. Ценой сынова увечья заставила. Так что теперь уже вижу: никак по-моему не бывать. А и пускай себе, – махнул он вдруг рукой с деланной беспечностью. – И так от нее одно беспокойство. С тобой вот друг на друга было стали косо глядеть… Бабы мои вообразили, что молодая да любая непременно свой порядок в избе заведет, над ними поднимется – особенно ежели родит-таки мне сына…
Хранильник вдруг трескуче хлопнул Кудеслава по плечу:
– Забирай купленную, слышишь? Дарю! Только… – Глаза Белоконя заискрились вдруг хитрой усметкой. – Только есть у меня такое условие: чтобы жить вам не у Велимира, а здесь. Понял? Иначе не отдам. Вот и думай, торопить не стану. Но чтоб сына-первенца мне в воспитание! Оно поди и так не худо получится: от молодого отца дети куда крепче будут, чем от меня, сыча старого. А ведовской силой и ты не обижен.
Кудеслав молча глядел на него. А что говорить? Жалко старика, но вслух ему такого не скажешь.
Белоконь тем временем перевел дух, расправил усы и вдруг захихикал:
– Ее ведь не я у хазар купил. Знаешь кто? Ах, знаешь… Вот же недоперок желторотый – задумал родителя провести! Он ее на болотном островке в шалаше прятал. Что ни день – исчезать повадился, еду куда-то таскает… Думал, никто не видит! Ну, я молчу, жду, что будет дальше. А он… чуть не сгубил девку дурень! Ну, известное дело: холод, проголодь, болотная сырость – ослабла телом, простудилась, да так, что не рожать ей… Он дня два-три молчал (видать, надеялся, что как-нибудь сама оклемается), а потом приходит ко мне и начинает: «Вот ежели бы у бабы такая да такая хворь приключилась и ежели бы тебе из такой бабы пришлось такую хворь изгонять, так как бы ты…». Ну, я, не дослушавши, за ухо его: «Веди, говорю, щучий сын, показывай!». На день бы позже тогда подоспел, и не видать тебе этой рыжей…
Он замолчал.
Кудеслав тоже помалкивал, грызя губы. Видел он, что все эти разговоры о преемнике, которому бы не страшно вверить святилище… конечно, они наверняка правдивы, но… Вот теперь-то Мечник чувствовал себя злодеем, обокравшим лучшего друга, почти отца. Мало ли что там на роду написано! Оторвать от сердца последнюю свою, может быть, самую крепкую любовь; со смешками да прибаутками (это когда душа поди волком воет!) отдать ее другому и взамен потребовать лишь, чтоб позволили воспитывать сына, отцом которого мечтал бы сделаться сам… Предложить собственный кров ухитителю своей любви, чтоб было ему где тешиться добычей…
Прежде Кудеслав смел почитать хранильника другом-приятелем, смел мнить себя едва ли не равным. А теперь… Миг назад старец, сам того не ведая, совершил великое ведовство: несколько деланно усмешливых слов, и Мечник предался ему душою и телом – беззаветно и навсегда. То, что во время схватки с людоедом Белоконь был готов в любое мгновение прийти на помощь другу, рискуя навлечь на себя и своих неискупимое проклятье богов, – это не шибко-то проняло Кудеслава: на месте волхва он поступил бы так же. Но вот решиться на что-либо равное нынешнему Белоконеву подарку… Нет, не осмелился Мечник спросить себя: «А ты? Даже зная, что поперек судьбы не проломишься, – смог бы?».
Так что скажи нынче волхв: «Ну-ка, друг душевный, развали головою вон тот дубок!» – Кудеслав, пожалуй, задумался бы лишь на миг (и то над тем, с разбегу ли надо биться о дерево, либо в прыжке).
Мечник и сам еще не почувствовал, что ощущение нечаянной виноватости крепче прежнего и по-иному, чем прежде, связало его со старым хранильником. Он лишь одно понял: постылое, однако привычное холостяцкое да неприкаянное житье круто ломается. Понял – и внезапно испугался этой перемены. Но выдать свой испуг хоть Белоконю, хоть кому еще – это уж и впрямь лучше головою о дуб. С разбегу. Либо в прыжке.
– Ну, поговорили и будет. – Волхв тяжело поднялся. – Еще раз благодарствую тебе, что отмстил за две жизни людские да за Гордеево увечье.
Он низко – в пояс – поклонился Кудеславу. Тот поспешно вскочил и хотел было отдать поклон, но хранильник помешал, коснувшись кончиками пальцев его лба:
– А тебе меня благодарить не за что. Кабы не дурость моя, так, может, и не пришлось бы тебе с людоедом-то… Что же до Векши – сам теперь понимаешь: была б на то моя воля, не видать бы вам друг друга, как собственных спин. Да, может, еще и проклянешь меня, старика, не раз за подобный подарочек. Норов-то у нее – ой-ей-ей!
Белоконь отвернулся, зашагал к избе, и Мечник поспешил следом.
– А коня расседлай покуда, – говорил волхв на ходу. – Сейчас поедим, да вместе и отправимся: у меня к Яромиру дело. Шкуру людоедову с собой повезешь – в отдарок названому отцу за рогатину… Милонега сейчас к сынам моим лошадь погонит – у них уговорено, – так я ей накажу проследить, чтоб они и Велимирово оружие прихватили; ты-то, вижу, в спешке забыл, а они могут вообразить, будто так и надо. О чем я?.. Да, значит, в град вместе поедем. Ну, и Векшу с собой возьмем.
– Векшу-то зачем? – спросил Кудеслав. – Ей бы спать, ведь две ночи на ногах промаялась.
– Ей тут без меня все едино покою не дадут, заедят. Ничего, у старейшины вашего отоспится.
Уже готовясь ступить через порог избы, Белоконь сказал:
– Коли будет на то твоя воля, хоть завтра же отпрошу тебя к себе и у Яромира, и у Лисовина. А об отцовом очаге не сокрушайся: камень из него вывернешь да с собой привезешь – то и ладно.
4
Давненько уже не приходилось Кудеславу столько тесать языком – почитай, с тех пор, как воротился из своего бродяжничания по чужедальним краям. Тогда многое пришлось рассказать сородичам – и в общинной избе, перед очами старейшины да наиболее чтимых родовичей, и во всяких других избах (наперебой зазывали, чуть ли не дрались за то, чей нынешним вечером приходит черед принимать его у себя).
Люди, большинству из которых путь на Торжище казался невесть каким дальним странствием, забывали дышать, слушая невероятные сказки о разных языках, живущих вдоль реки Волглы; о сумрачной земле драчливых урманов; о теплом море, по берегам которого обитают поклоняющиеся неугасимому пламени персы-мидийцы; о других теплых морях, которых и сам Кудеслав не видел, зато слыхал про них много чего от своих скандийских знакомцев…
И сотой доли не было рассказано из того, о чем можно было бы рассказать. Но не потому, что рассказы наскучили слушателям, – это самому Кудеславу довольно быстро наскучило быть рассказчиком. Отчасти из-за бессилия передать словами виданное и пережитое, отчасти потому, что нередко его понимали странно или не понимали вообще. А главное – ведь не ради же распахнутых от удивления ртов сородичей поддался Мечник на уговоры урманских торговцев-воителей! Не ради удивления родовичей, не ради добычи, не ради возможности вдоволь наиграться оружием в неведомых дальних краях и даже не ради возможности эти самые края повидать. А ради чего? Если бы кто дознался, что Кудеслав по сию пору так и не успел найти ответ на этот вопрос, – вовсе пустоголовым прослыл бы в общине Мечник, обижающийся на прозвание Урман.
Рассказы ему опостылели, а потому стали неинтересными. К тому же старики принялись ворчать, что Кудеслав дурит головы желторотым юнцам, что этак все по дальним землям поразбегаются, а община оскудеет людьми да вымрет… Поток приглашений пошел на убыль.
Последних, самых прилипчивых, Велимир живо отвадил от своего двора, за что Мечник был несказанно благодарен своему названому отцу. Года не прошло, как Кудеславу перестали заглядывать в рот – вместо этого стали шушукаться за спиной. Дескать, непоседливый человек, ненадежный. В отцовой избе живет, ровно из милости принятый захребетник; дрова вместо топора мечом колет; охотник неважный; до первой седины дожил неженатым… Одно слово – Урман.
И вот нынче затеялось, будто в те, прежние, времена. Спасибо, хоть дали выспаться за обе бессонные ночи.
И Велимиру спасибо.
Когда Кудеслав, распрощавшись на ночь с Белоко-нем и Векшей, ввел коня в Велимиров дворик, на град уже навалилась густая темень. Мгновенье-другое Мечник промешкал, бездумно вслушиваясь в удаляющийся копытный топот (по, в общем-то, понятным причинам хранильник желал ночевать непременно у старейшины, хоть у того не просторней многих, а уж волхва-то с радостью примут в любой избе, пожелай он хоть до крепкого тепла поселиться).
Наконец Мечник встряхнулся и взялся было расседлывать заморенного коня, но тут с протяжной заунывной жалобой распахнулась избяная дверь и на пороге появился сонно помаргивающий Велимир – в сапогах, в накинутом на голое тело полушубке (это то есть в одних только сапогах да полушубке) и с лучиной в руке.
– Живой, что ли? – позевывая, спросил Лисовин.