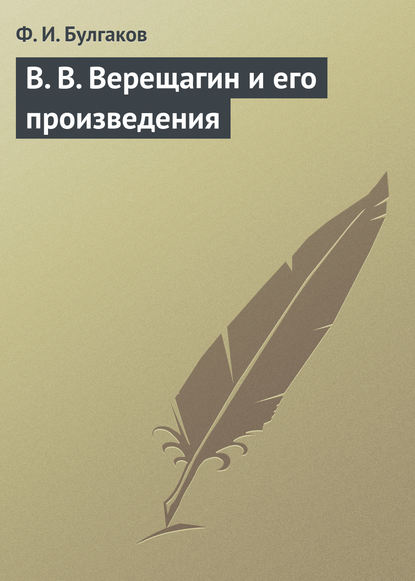По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В. В. Верещагин и его произведения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мастерская была очень обширна и удобна, но не имела никаких приспособлений для того, чтобы можно в ней работать «прямо на воздухе и на солнце», о чем упоминается в биографии В. В. Стасова. «Неправда, что я мог работать там на воздухе и на солнце», писал мне по этому поводу Верещагин: «этого заведения не у кого в Мюнхене не было, и я первый устроил это за городом, куда и ходил каждый день, когда погода была благоприятна сюжету. Все нужное я сколотил из досок и простудил там ноги. Плуты швабы оттягали у меня мои шалаши, и я должен был устроиться второй раз в другом месте.» По-видимому, сам Горшельд не придавал даже особенного значения такой работе. Этот удивительный художник, по словам Верещагина, например, делал солнце «приблизительно», при обыкновенном свете своей мастерской. Также, загорелых горцев изображал, вымазывая битумом своего натурщика Кнаура, чтобы не искать другого. «Все это», замечает Верещагин, «мне казалось не ладным. Но, повторяю, его рисунок, вкус и вся его натура, темперамент были истинно художественны».
Получив, таким образом, более или менее удобную мастерскую, Верещагин принялся за работу и проработал здесь почти три года, нигде не бывая, видаясь только с талантливыми художниками-баталистами, профессором Коцебу и польским художником Брандтом.
XII. Туркестанские картины
Конец 1873 и начало 1874 годов Верещагин провел в своей мюнхенской мастерской за новыми картинами. В марте 1874 года он, собрав все написанные до сих пор картины (кроме выставлявшихся уже на первой выставке), привез их в Петербург и выставил в доме министерства внутренних дел. Теснота и некоторая мрачность помещения, а также сумрачная и сырая погода не совсем благоприятствовали выставке, но, несмотря на это, успех выставки был колоссальный, беспримерный. Одних каталогов продано было до тридцати тысяч. «Что делалось всякий день в доме выставки – мудрено рассказать», говорить В. В. Стасов[7 - О своем знакомстве с В. В. Стасовым в то время Верещагин рассказывал мне следующее: «Бейдеман, вдова моего бывшего профессора и друга, писала мне, что Стасов, увидевши у нее портрет на почтовой бумаге, добился того, чтобы она вырвала его и отдала ему, якобы большому поклоннику моего таланта. Он будто бы выражал живейшее желание со мною познакомиться – вот почему, ходя мимо Публичной Библиотеки, я зашел раз к нему и познакомился».]. «Не только самые залы, но даже большую министерскую лестницу толпа целый день брала точно приступом. В продолжение дня полиция много раз принуждена была замыкать двери выставки и впускать по очереди только известную массу, иначе всякий раз, наверное, было бы задавлено много людей. Навряд ли был такой человек в Петербурге, который не побывал бы на этой необыкновенной выставке хоть раз.» Тот же В. В. Стасов, посвятивший восторженную статью новым картинам, с энтузиазмом говорил о правдивости Верещагина, сравнивал его с тенденциозным французским баталистом Орасом Вернэ и ставил Верещагина, «неумолимого и дерзкого реалиста», выше Вернэ, уже по одному тому, что в произведениях первого «громко звучит нота негодования и протеста против варварства, бессердечия и холодного зверства, где бы и кем бы эти качества не пускались в ход», потому что он рисовал виденное им, «не заботясь не об одном из принятых правил искусства, общежития и даже национальности». Покойный П. Н. Крамской, считавшийся или, вернее, считавший себя наиболее компетентным знатоком искусства, был в не меньшем восторге от выставки. «По моему мнению», писал он, «эта выставка – событие. Это завоевание России гораздо больше, чем завоевание территориальное»… Такое настроение было почти всеобщим. Слышались голоса людей, не вполне разделявших общий восторг, но это были единицы. За исключением таких единичных рецензентов, все остальные были в восторге от выставки, вмещавшей в себе все, написанное Верещагиным с 1870 года, а написал он, благодаря своей энергии не мало.
Еще в Ташкенте в 1870 г. им были написаны прямо с натуры: «Политики в опиумной лавочке», «Нищие в Самарканде», «Дуваны в праздничных нарядах» и «Хор дуванов, просящих милостыню». В Мюнхене в 1871 г. Верещагин, за исключением нескольких этнографических картин, в роде «Киргиз-охотник», писал главным образом картины с сюжетами из той самаркандской войны, в которой он принимал живое участие. Здесь написана была им картина «У крепостной стены. Тсс… пусть войдут!», и «У крепостной стены. Вошли!». Первая, как мы говорили уже выше, изображает эпизод из личной жизни Верещагина, факт, взятый из времен осады Самарканда. Вторая – неудачный результат попытки неприятеля войти в крепость через пролом. Русские солдаты, преспокойно покуривающие трубки и смотрящие с крепостной стены, на которой развевается знамя, как их товарищи убирают груды мертвых азиатов, – вот красноречивый сюжет этой картины. Что предшествовало этому результату, можно узнать из воспоминаний художника: «Вот», пишет он, «крики над самыми нашими головами, смельчаки показываются на гребне – грянуло „ура!“ с нашей стороны и такая пальба открылась, что снова для штыков работы не осталось, все отхлынуло от пуль»… Мертвые тела, которые теперь так покорно лежать около стены, результат «пальбы».
В 1871 и 1872 году написаны Верещагиным две картины, сюжет которых им взят из времени его пребывания на китайской границе, когда он вместе с незначительным русским отрядом ходил «щипать» пограничные китайские деревушки, угонять скот. Картины эти озаглавлены: «Нападают врасплох» и «Окружили – преследуют». Офицер с саблей наголо, ожидающий нападения, в первой из них, передает до некоторой степени положение Верещагина, тот момент, когда он, поняв серьезность минуты, решился, если можно, отстреляться, а если этого нельзя, так хоть не даться легко в руки налетевшей «орды». «Многое, конечно, в этих картинах», говорит Верещагин, «изменено, кое-что, например, взято из свежего в то время рассказа о нечаянном нападении известного Садыка на небольшой русский отряд, посланный на розыск его, нападения, случившегося перед самым приездом моим в Туркестан, на местах, по которым я проезжал. Так как и этот факт я взял не в целом составе, а заимствовал из него только наиболее характерное, то не мало пришлось потом слышать нареканий за то, что картины мои – небывальщина, ложь, клевета на храброе туркестанское воинство и т. п. Даже разумный, добрый и хорошо ко мне расположенный генерал К. П. Кауфман публично укорял меня в том, что „я слишком дал волю своему воображение, слишком насочинял“».
Такого же рода упрек пришлось выслушать Верещагину по поводу своей замечательной по идее и выполнению картины «Забытый». Среди пустыни, освещенной желтым вечерним солнцем, лежит, беспомощно раскинувшись, убитый, «забытый» русский солдат. Вдали, за речкой уходят «свои», а тут спускаются огромные орлы, целая туча горных ворон, почуявших добычу и готовящихся начать свой пир. Одна из них уже сидит на груди убитого, широко раскрыв клюв, сзывает своим пронзительным криком других. Подле валяется ненужное теперь ружье. Тема, затронутая народной песней «Уж как пал туман на сине море», а также Лермонтовым, впервые трактовалась живописцем войны и произвела сильное впечатление. Кауфман, прекрасный сам по себе человек, был возмущен этой картиной. «При целом зале туркестанцев», рассказывает Верещагин, «Кауфман, очевидно, умышленно шельмовал меня, заставлял сознаться, что именно русского солдата в такой позе, объеденного птицами, я не видел, и положительно торжествовал, когда я под ироническими улыбками его свиты сознался: да, не видел. „Ну, вот, очень рад“, ответил он и повернулся ко мне спиною. Надобно сказать, что Кауфман был чудесный человек, и я мог тут сказать известные слова: „и ты, Брут, на меня“…»
Почти весь 1872 год посвятил Верещагин писанию большой героической поэмы «Варвары», которая должна была состоять из девяти картин. Написано, однако, было всего семь картин. Из них наиболее обратили на себя внимание главным образом три: «Представляют трофеи». «Торжествуют» и «Апофеоз войны». Первая изображает внутренность Самаркандского дворца. В одной из галерей, среди стройных колонн, недалеко от трона, эмир бухарский стоит и рассматривает наваленную перед нем кучу черепов, толкая ногой один череп за другим. Подле него – придворные в пестрых халатах, с неподвижными лицами. На второй картин – площадь Регистана, в Самарканде, с замечательно красивой мечетью персидско-арабской архитектуры. Мулла, окруженный толпой народа, сидящего на земле, с энтузиазмом проповедует после победы, указывая на головы русских, воткнутые на высоких шестах и расставленные вокруг площади. Картина «Апофеоз войны» представляет собой сухую пожженную степь, посреди которой возвышается пирамида из человеческих черепов. Несколько ворон прыгает по этим черепам, надеясь найти хоть кусочек мяса.
Первоначально художник хотеть назвать ее «Апофеоз Тамерлана», но затем рассудил, что значение картины может быть обобщено. Франко-прусская «бойня», совершавшаяся у всех на глазах, привела его к тому заключению, что напрасно Тамерлана считают извергом, человеком-зверем, каких в настоящее время даже быть не может. Очевидец и участник войны современной, художник не мог не видеть, что между настоящим и прошлым граница не так уже велика, что жестокость, бесчеловечность – неизбежные спутники войны, когда бы и где бы она не велась. На этом основании он не только обобщил заглавие картины, но кроме того прибавил еще, что она «посвящается всем великим завоевателям прошедшим, настоящим и будущим».
Император Александр Николаевич был чрезвычайно поражен этой картиной. Он остановился перед нею и попросил Верещагина рассказать историческую подкладку картины. В общем, в противность тому, что говорили по предположению, Государь нисколько не возмущался выставкой. «Государь, рассказывает Верещагин, „был очень добр, и я обращался с ним запросто. „Садитесь, Ваше Величество“, говорил я перед некоторыми картинами, и он покорно садился. „Встаньте здесь, лучше увидите, Ваше Величество“, он останавливался на указанном месте“. Выставленная в Европе, картина производила необыкновенное впечатление, о чем писали сотни газет.
В это же приблизительно время написана была картина „Смертельно-раненый“, сюжет которой взять был из той же Самаркандской войны. Это – сцена с натуры. Солдата пуля ударила в ребра. Он выпустил из рук ружье, схватился за грудь и побежал по площадке в круговую, крича: „Ой, братцы убили, ой, убили! Ой, смерть моя пришла!“ „Что ты кричишь-то, сердечный, ты ляг“ – говорил ему ближний товарищ, но бедняк уже ничего не слышал, он описал еще круг, пошатнулся, упал навзничь и умер.» Так описывает сам Верещагин сцену, которая произошла на его глазах и дала тему для написанной им позже картины.
В 1872–1873 годах написаны Верещагиным большая картина «У дверей Тамерлана», «У дверей мечети» и «У гробницы святого», замечательные по своим световым эффектам и мастерскому рисунку чудной восточной архитектуры. В это же время написан им «Самаркандский Зиндан», представляющей собой подземную тюрьму, погреб, в который едва-едва проникает слабый свет. Тюрьма эта, как и другие картины Верещагина, написана с натуры[8 - Подробности о ней см. ниже: «Художественные произведения В. В. Верещагина».].
Проработав усиленно, почта без отдыха, три года, Верещагин страшно устал; это отразилось на целом ряде картин, писанных в последнее время и потому значительно уступающих первым. Таковы «Перекочевка киргизских орлов», изображение туркестанских офицеров: «Когда поход будет» и «Когда похода не будет», «Молла Раим и Молла Керим» и др. Последняя задумана была в трех видах: 1) картина – Молла Раим и Молла Керим угощаются, в полной сартовской обстановке, среди посуды, утвари и т. д. 2) Молла Раим и Молла Керим по дороге на базар верхом на осликах ссорятся 3) – судятся; сцены у кади с обвинением и защитой. «Я был так уставши», рассказывает Верещагин, «что едва осилил одну картину и то не важно. Однако помню, что натурщик мой, сидя на осле, все время до хрипоты бранился».
Выставки в Лондоне (1873 г.) и Петербурге несколько отвлекли Верещагина от работы, дали ему возможность отдохнуть, хотя полному отдыху мешали те неприятности, которые пришлось художнику испытать от тех, кого шокировала правда, изображенная на картинах Верещагина. Выше уже сказано, как недоволен был Кауфман, доказывавший, что Верещагин в своей картине «Забытый» налгал, потому что его отряд никогда не оставлял на поле битвы убитых. Так же точно отозвался о картинах Верещагина бывший директор азиатского департамента Стремоухов, который сказал Верещагину, что он ходил по выставке со своим приятелем, генералом М. и стыдился за его картины. «Он нашел», рассказывает Верещагин, «что насколько Орас Вернэ, с которым меня сравнивал М., прославил французскую армию, настолько я унизил и оклеветал русскую. Даже не дал мне возразить, и я ушел от него, как ошпаренный кипятком.»
После этого разговора Верещагин решили уничтожить те несколько картин, которые кололи глаза многим. Замечательные картины «Забытый», «Окружили – преследуют!», «Вошли» были сняты с выставки и сожжены. Разговор со Стремоуховым, впрочем, был не единственной причиной, побудившей Верещагина на такой поступок. Причин было много. Одной из главных, однако, было следующее. Верещагин просил генерала Кауфмана дать ему возможность, не разразнивая картин и этюдов, худы ли, хороши ли они, сохранить все их вместе, как память об известном моменте из жизни нового края. С этой целью Верещагин просил, чтобы Кауфман предложили Государю его картины за сто тысяч, которые нужны ему были на дальние путешествия и устройство задуманной им художественно-ремесленной школы. В ответ на это Верещагин услышал угрозу, что вряд ли «возьмут такую постыдную клевету на русское войско»… Вообще неприятностей всякого рода, наверное, было не мало.
«Трудно», пишет Верещагин, «рассказать все, что болталось и доходило до меня в этом море сплетен, именуемом Петербургом». Все эти сплетни, доведшие Верещагина до «казни» картин, а затем сама казнь произвели на него ужасное впечатление. Генерал Гейнс, тогда всякий день с ним видавшийся, по словам В. Стасова, застал Верещагина в первые минуты после казни картин в таком положении: Верещагин лежал, завернувшись в плед, у той печки, где догорали куски разрезанных картин; он был страшно бледен, вздрагивал и слезы были на глазах. Он рассказывал, что везший его извозчик принял его за пьяного, несколько раз на него оглядывался и этим еще больше его расстроил.
Уничтожение картин, в свою очередь, вызвало целый ряд новых слухов. Начали говорить, что будто Верещагин уничтожил свои картины вследствие неудовольствия самого Государя. Несмотря на то, что слух этот был чистейшей нелепостью, так как Государь, обходя выставку в 1874 г. и останавливаясь перед всеми лучшими картинами, в том числе и перед уничтоженными, выражал Верещагину свое восхищение и удовольствие, в «Голосе» отказались напечатать небольшую заметку В. В. Стасова, разъяснявшую этот факт. Мало того, когда Мусоргский написал музыку на тему «Забытый» (слова гр. Голенищева-Кутузова) и издал ее с посвящением В. В. Верещагину, все издание было уничтожено[9 - Позже ноты были напечатаны, но без посвящения.]. Насколько неправы были слухи, говорившие о неудовольствии Государя, удалось узнать В. В. Стасову год спустя после выставки: В 1875 году он встретился с графом П. А. Шуваловым и генерал-адъютантом А. Л. Потаповым, начальником III-го отделения Собственной Его Величества Канцелярии. В. Стасов рассказал им подробно всю историю сожжения картин и узнал от них, что Государь и не думал высказывать какого бы то ни было неудовольствия[10 - См. Собрание соч. В. В. Стасова, т. II. отд. 4, стр. 309.].
Ходили, впрочем, также слухи, что правительство берет всю выставку, предлагая шесть тысяч рублей пожизненного пенсиона, но что автор желает получить разом, не соглашается на пенсион, говоря, что он может умереть через год, два, завтра, сегодня, а между тем он обзавелся семейством и, стало быть, ему необходимо труд свой реализировать[11 - К. П. Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. Изд. А. С. Суворина. Спб. 1888, стр. 211–212.]. Крамской, сообщивший об этом П. М. Третьякову, в письме к В. В. Стасову писал о слухе, будто бы Верещагин принужден распродать коллекцию в разные руки желающим. «Мне сдается», говорит он по этому поводу, «что этого допустить не следовало бы. Уж если суждено нам не понять и не оценить явление, то пусть лучше он увезет в Лондон и продает там. В свое время, когда русские художники поймут важность картин из русской истории, тогда, по крайней мере, они будут ездить в Англию и видеть все вместе, только чтобы не допустить раздробления»[12 - К. П. Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. Изд. А. С. Суворина. Спб. 1888, стр. 213.]. До этого, впрочем, не допустил П. М. Третьяков, который сейчас же после выставки купил всю коллекцию целиком за 92.000 рублей. Из переписки П. Н. Крымского видно, что именно он старался убедить П. Третьякова приобрести непременно все коллекции. 12 марта 1874 года он писал Третьякову:
«Верещагин объективен гораздо больше, чем человеку свойственно вообще. Та идея, которая пронизывает все его произведения, выходит из головы гораздо больше, чем из сердца. Но откуда бы его идеи не выходили, они, однако ж, такого сорта, что отказать им в сочувствии нельзя; его форма так объективна, сочинение так безыскусственно и не выдумано, что кажется фотографическими снимками с действительно происходивших сцен. Но так как мы знаем, что этого нет и быть не могло, то в сочинении и композиции его картин участвовал, стало быть, талант и ум. Его живопись (собственно письмо) такого высокого качества, которое стоит в уровень с тем, что мы знаем в Европе. Его колорит, в общем, поразителен. Его рисунок, не внешний, контурный, который очень хорош, а внутренний, то, что иногда называют лепкой, слабее его других способностей, и он-то, этот рисунок, главным образом, заставляет меня отозваться о нем, как о человеке неспособном на выражение внутренних, глубоких сердечных движений. Но уровень его художественных достоинств, его энергия, постоянно находящаяся на страшной высоте и напряжение не ослабевая ни на минуту, наконец, вся коллекция, где Средняя Азия действительно перед нами со всех мало-мальски доступных европейцу сторон, производит такое впечатление, что хочется удержать ее, во что бы то ни стало, в полном ее составе.»
XIII. Отречение от звания профессора живописи
Не осталась равнодушной к выставке и Академия Художеств, которая решила дать Верещагину звание профессора. В. В. Верещагин был уже в Бомбее, когда получил уведомление от В. В. Стасова о чести, оказанной ему Академией, и немедленно же отправил в редакцию «Голоса» буквально следующее письмо: «Известясь о том, что Императорская Академии Художеств произвела меня в профессора, я, считая все чины и отличия в искусстве, безусловно, вредными, начисто отказываюсь от этого звания. В. Верещагин. Бомбей, 1-13 Августа». Позже, вспоминая об этом, Верещагин нисколько не сожалел о своем поступке. «Считаю, что я очень хорошо сделал», говорит он, «отказавшись от чина профессорства. Чины, по моему мнению, язва, ржавчина нашего организма. Они присосались и к художникам. Тайный советник такой-то, действительный статский – другой – смешны, мелки и глупы. Молодое поколение должно было видеть, что есть думающие иначе обо всех этих „отличиях“… Искусство должно быть свободно от такого вредного вздора. Может быть, я мог выразиться мягче – с этим не спорю»…
Как бы то не было, но письмо было напечатано в 252-м No «Голоса» в 1874 году и вызвало ужасную бурю. «Беспримерное дело совершается на Руси», писал в «Соврем. Извест.» (№ 233) какой-то Урусов: «Отказываться от почетнейшего звания, подносимого императорской Академией Художеств! Мы в затруднении, плакать нам, или смеяться при виде такого явления, необычайного у нас и редкого в целом свете». Академик Тютрюмов напечатал в «Русском Мире» (№ 262) статью под заглавием: «Несколько слов касательно отречения г. Верещагина от звания профессора живописи». Назвав нисколько раз Верещагина азиатом, – «из русского преобразившимся душой и телом в один из тех типов, которые он набросал (!) в своих картинках» (!), Тютрюмов каким-то непонятным образом сделал из письма Верещагина вывод, что «такому художнику, как он, всякие почетные титулы вредны, а полезны только деньги, деньги и деньги, которые он и сумел ловко выручить». Не ограничиваясь такой передержкой, Тютрюмов рассказал, что огненное освещение некоторых зал выставки было устроено для того, чтобы «скрыть недостатки письма многих картин», что вообще все картины писаны не самим Верещагиным, а «компанейским способом», в Мюнхене, что одному человеку не под силу в 4–5 лет написать такую массу картин, и поэтому-то Верещагину, «давшему только свою фирму, совестно было принять профессорство». Любопытно, что и в Академии нашелся господин (покойный Ф. И. Иордан), который читал статью в рукописи, а затем, когда она была напечатана, читал ее всем профессорам, предлагал даже прочесть в Совете Академии, как нечто такое, с чем Совет должен согласиться и даже одобрить[13 - И. Крамской. Спб. 1888 г., стр. 235. Здесь же, в приложении, напечатан не появившийся в свое время рассказ Крамского: «Вечер между художниками», характеризующий общее настроение художников по поводу этого инцидента. Стр. 589.].
Возмущенные выходкой Тютрюмова, бар. М. П. Клодт, М. К. Клодт, В. Якоби, П. Шишкин, П. Крамской, П. Чистяков, Н. Ге, А. Попов, Г. Мясоедов, П. Забелло и К. Гун написали коллективное заявление от товарищества передвижных выставок и напечатали его в газете «Голоси» (№ 275). «Никогда в печати», говорилось в этом заявлении, «не появлялось более возмутительного обвинения, направленного против художника. Тем не менее, мы, пишущие эти строки, не сочли бы себя в праве возражать академику Тютрюмову, если бы он говорил от своего лица, а не от лица художников вообще. Подобное обобщение его мнения с мнением всех художников обязывает нас заявить публично, что мнения г. Тютрюмова нами совершенно чужды. Мы не делим ни его разочарований, ни подозрний, ни его критических взглядов и смеем думать, что Верещагин с честью может оставаться в семье русских художников, что бы не думал о нем г. Тютрюмов»[14 - Заявление это, в его первоначальной, более пространной и резкой форме, напечатано в приложении к книге: «И. Крамской», стр. 730–731.]. Уполномоченный Верещагиным, В. В. Стасов потребовал (в «С.-Петербургских Ведомостях», № 269) от Тютрюмова фактов, на основании которых он сделал свое заявление, и получили самый уклончивый ответ. Кроме того, тот же В. Стасов, по совету известного баталиста, проф. А. Коцебу, возмущенного этой теорией, обратился к Мюнхенскому обществу художников с просьбой произвести формальное художественное следствие о работах Верещагина за время его пребывании в Мюнхене, т. е. с 1871 г. по 1873 год. По этому поводу «Мюнхенское художественное товарищество», состоявшее из 600 приблизительно художников, прислало официальное письмо от 18–30 декабря 1874 г., где говорилось, что общество это произвело тщательнейшее расследование по этому предмету, созывало в общее собрание всех своих членов, расспрашивало прежнюю прислугу Верещагина, но никакие расспросы и справки не подтвердили слов академика Тютрюмова. «Как в их общем собрании, так и вне его», говорилось в письме, «во всех художественные кружках, факт оклеветания такого высокого художника, как Верещагин вызвал глубочайшее негодование, и что, без единого исключения, все многочисленные художники, знающие произведения Верещагина по фотографиями, выразили самую твердую уверенность, что высокая оригинальность этих созданий на сюжеты из ташкентской войны, решительно исключает участие всякой другой руки, кроме руки самого мастера». Заявление это, подписанное председателем, секрётарем и членами Товарищества мюнхенского общества, было напечатано В. Стасовыми в № 325 «С.-Петербургских Ведомостей» и убедило всех, насколько нелеп был пасквиль академика Тютрюмова.
XIV. Мытарства туркестанских картин в Москве
В Москве, куда П. М. Третьяков перевез купленную коллекцию, отнеслись к картинам очень странно. Один корреспондент «Московских Ведомостей» сообщил своим читателям, что картины Верещагина «более похожи на раскрашенные иллюстрации к книге о Туркестане, чем на художественные в полном смысле произведения», упрекал художника в недостатке патриотизма и поэзии, а другой корреспондент той же газеты находил его «русским по преимуществу», говорил, что Верещагин в нашей живописи – то же, что наша литература имеет в лице автора «Казаков» и «Войны и Мира…» В общем, картины Верещагина встречены были в Москве довольно равнодушно и в некоторых случаях даже враждебно[15 - Ср. «Современные Известия», 1874 г. 28 окт. Статья В. Брызгалова.]. К числу людей, «не признавших» Верещагина, примкнул в конце 1874 года, между прочим, и Перов.
Любопытно, что в начале 1874 года тот же Перов глубоко возмущался равнодушием, оказанным москвичами картинам Верещагина. Письмо, написанное им по этому поводу к В. Стасову, дышащее негодованием, любопытно в том отношении, что рассказывает о тех мытарствах, которые испытали картины Верещагина в Москве. «Извините», писал он Стасову 27 апреля 1874 года, «что я так долго не отвечал на ваше письмо: но причина тому была немаловажная, которую я и постараюсь изложить вам здесь. П. М. Третьяков, купив коллекцию картин Верещагина, предложил ее в подарок училищу (живописи, ваяния и зодчества), но с условием, чтобы училище сделало пристройку с верхним освещением, где бы и могла помещаться вся коллекция картин, и дал свободу сделать это через год и даже через два, а покуда картины могут поместиться в училище на стенах, и, назначивший известную плату, открыть вход для публики: таким образом, даже еще кое-что приобретется для постройки галереи. Что же, вы думаете, сделали члены совета, т. е. начальствующие лица училища? Конечно, обрадовались, пришли в восторг, благодарили Третьякова? Ничуть не бывало. Они как будто огорчились. Никто не выразить никакого участия к этому делу, и начали толковать, что у них нет таких денег (по смете оказалось, что для этого нужно 15,000). Думали-гадали, где достать эти деньги, и не нашли и почти-что отказались от этого подарка, даже и не послали поблагодарить Третьякова, а назначили другой совет, куда был приглашен и Третьяков, вероятно, с тою целью, что так как он уже истратить 92,000, то не пожертвует ли он и 15,000 на постройку. Нужно вам сказать, что в совете сидели ***, ***, *** и ***, у каждого есть не один миллион, а несколько. Так кончился первый совет. Инспектор, видя всю эту неловкость, вызвался поехать к Третьякову и поблагодарить его. Тогда ему сказали, чтобы он поблагодарил и от них. На второй совет Третьяков не приехал, а прислал письмо, что он свою коллекцию более не дарит училищу. Вы думаете, Влад. Вас, произошел шум, высказано было сожаление, желание возвратить потерянное? – Ничуть ни бывало, все как будто обрадовались: – „ну и пусть так будет!“, и тут же, как бы издеваясь над Третьяковым и полезным делом, начали рассуждать о том, что нужно заложить училище за 200,000 р. и выстроить доходный дом. Теперь все это кончено. Что будет? Где будет помещаться коллекция Верещагина – неизвестно… Мое мнение таково, что искусство – совершенно лишнее украшение для матушки России, а, может, еще и не пришло то время, когда мода на искусство выразится сильнее, а потому и любовь к нему будет заметнее.»
Великодушный даритель, П. М. Третьяков, принужден был взять свой великолепный дар назад. Он предложил Верещагинскую коллекцию Московскому обществу любителей художества, но оно тоже отказалось, ссылаясь на недостаток места. Тогда П. М. Третьяков выстроил новые залы при своей прежней галерее и взял коллекцию к себе назад, все-таки предназначая ее русскому народу.
XV. В Индии
«Петербург с своими сплетнями», пишет В. Верещагин, «опротивел мне. Надобно уехать, и я уехал прямо в Индию!» По первоначальному плану, он хотел проехать в Индию не «прямо», а, хоть и не по пути, посетить Соловецкий монастырь, Сибирь, Приамурский Край, Японию, Китай и Тибет. Остановило его самое ничтожное обстоятельство – отказ человека, согласившегося поехать с ним вместе. Это был отставной матрос, которого рекомендовал Верещагину г. Гейнс. Последний, по-видимому, просто напугал этого человека, «всякого рода ужасными предостережениями, сказав ему, что в круг его обязанностей будет входить защита барина от медведей, тигров, воров и разбойников. В результате – уже совсем собравшийся матрос задумался и, в конце концов, отказался ехать, сославшись на то, что „мамаша не дает благословения“». После этого, Верещагин, уже купивший даже себе шубу и другие необходимые вещи для путешествия по холодному северу, изменил маршрут, поехал в Индию через Константинополь и Александрию.
Как видно из писем Верещагина к В. Стасову, присланных с дороги, его очень беспокоила судьба оставленных в Петербурге картин, разрознить которые ему не хотелось. Узнав о том, что коллекцию купил П. М. Третьяков, Верещагин назначил 5000 рублей из числа входной платы на выставку 1874 г. в «особые» платные дни на устройство первоначальных школ для девочек и мальчиков, на улучшение способов преподавания в первоначальных школах, хоть в одной, с тем, однако, чтобы деньги эти шли «не на поповское, а тем паче не на дьячковское обучение». Плата за вход была довольно высокая (один рубль) и, так как выставка уже близилась к концу, то пять тысяч собрать не удалось. Позже Верещагин очень жалел, что распорядился таким образом. «Я поддался генеральской выдумке», пишет он, «и в эти дни отгоняли от двери целые сотни народа из-за глупого рубля»…
Путешествовать по Индии было гораздо труднее, нежели раньше по Кавказу. Приходилось пользоваться всеми способами передвижения, идти пешком, ехать верхом, мчаться по железной дороге, плыть на пароходе, жить в скверных гостиницах или шалашах, питаться, чем Бог послал, не спать, вообще переносить всякого рода неудобства. В одном из своих писем к В. Стасову (11-го февраля 1875) В. Верещагин так рассказывает о своем путешествии: «Я в самой середке Гималаев, в малом королевстве Сикким; в резиденцию великого монарха этой страны я уже направляюсь и уже обменялся с ним несколькими витиеватыми письмами и более скромными подарками. Это время я занимался в буддистских монастырях, а ранее того, на высоте 15,000 футов, чуть не замерз с своею женою. Снег, по которому нам пришлось идти последней день подъема на гору Канчинги (28,000 футов), испугал моих спутников, и они за нами не изволили последовать. Между тем пошел снег, которым пришлось и питаться за неимением другой пищи; он потушил наш огонь, и кабы не мой охотник, который отыскал и уговорил одного из людей внести на гору ящик и несколько необходимых вещей, – пришлось бы плохо. Замечательно, что я выбился из сил и положительно заявил об этом прежде, чем моя дорогая спутница, маленькая жена, слабая и мизерная. Зато после, когда первое изнурение прошло, она вдруг грохнулась о землю. Лицо мое за несколько дней пребывания на этой высоте непомерно опухло, и какое-то странное давление на темя, от которого я непременно умер бы через пару промедленных дней, заставило меня спуститься прежде, чем все эти этюды, которые я намеревался сделать, были готовы. Сделаю еще попытку в другое время года и в другом месте – уж очень хороши эти горные шири и выси, покрытые льдом и снегом. Когда спущусь с гор, приду в Агру, пошлю вам оттуда с полсотни, а, может, и более этюдов; многие из них лишь наброски, но многие хорошо кончены, и из таковых каждый, надеюсь, стоит петербургских профессоров (а все-таки профессором не хочу быть и не буду). То, что с помощью этих этюдов я надеюсь сделать, будет, как думаю, иметь не англо-индийское только, а всеобщее значение, и не формою только, т. е. рисунком, эффектом письма и проч., а самою сутью картины. Впрочем, не хвалюсь, едучи на рать… Что вам сказать на обвинение меня в эксплуатировании чужого труда и искусства? Я не только дотрагиваться до моих работ, даже смотреть на них никого не пускал, так после этого судите, как это обвинение смешно и глупо… В настоящую минуту думаю, как бы уговорить посидеть немого странствующего буддистского монаха, который, бормоча молитвы, обходит чуть не 20-й раз мой монастырь, и еще чешу руки, искусанные москитами… Я бы держал свои этюды здесь, но они покрываются плесенью за время дождей, а в жару коробятся, доски трескаются (на несчастие, несколько этюдов я написал на досках). Получил извещение от графа Шувалова из Лондона, что на Бомбей посланы мне рекомендации. Это было очень нужно; здешние влиятельные люди говорили мне, что без достоверных рекомендации я прослыву шпионом.»
Последняя предосторожность, далеко не лишняя, была вызвана действительным положением дел. Спустившись с гор, в которых он три месяца писал буддистских монахов, их монастыри и вершины гор, Верещагин был очень удивлен, прочитав в газете «Pioner», в Алахабаде, пространную корреспонденцию, в которой, восхваляя его, как художника, высказывали общее подозрение, что он пишет горные ручьи и проходы не даром, что не даром Россия ищет случая проникнуть в Тибет, Китай и т. п. Таким образом, на Верещагина, которого в России упрекали в «интернациональстве», англичане смотрели как на шпиона русского правительства. Барон Остен-Сакен, один из лучших знатоков наших западных и восточных дел (директор департамента внутренних сношений в министерстве иностранных дел) оказал здесь большую услугу Верещагину, давши ему рекомендательное письмо к начальнику топографического отдела в Индии, генералу Уокеру (Wocker). Последний снабдил Верещагина уже от себя рекомендательными письмами, за которые не раз потом выслушивал упреки от других важных сановников Великобритании.
Индийская природа и климат представляли массу всякого рода затруднений, побороть которые только и могла железная воля Верещагина. Путевые заметки, составленные женой художника, заключают в себе целый ряд фактов, показывающие чего стоили Верещагину его индийские этюды и картины. Вот что рассказывает Е. К. Верещагина об их экскурсии в Джангри, куда они отправились, потому что Верещагин хотел непременно написать этюды высочайших гор, покрытых не старым снегом, а новым, недавно выпавшим, во всей его белизне: «Мы были на высоте 10,000 футов. Спички наши отсырели и не горели, но так как огня надо было добыть, во что бы то не стало, то охотник наш выстрелил, на близком расстоянии в тряпку, которая и задымилась. Кули наши раздули славный огонь, и скоро у нас запылал славный костер. Отдохнувши и обогревшись, мы решили идти дальше. Пошли по сплошному льду, покрытому снегом, скользили и падали, снова шли, пока я не упала в обморок». Носильщики, которых послали за провизией, ушли и не возвращались. «Положение наше делалось критическим, холод был сильный, одежда на нас с одной стороны дымилась от жару, в то время как с другой – на ней нарастало льда на 2 пальца толщины… Мороз к утру все усиливался, и я дивилась, как мог муж мой в таком бедственном положении, еще рассуждать о тонах и красках двигавшихся над нами облаков.»
Верещагин не только «рассуждал», но и работал при самых ужасных условиях. Ослабевший до того, что два кули должны были помогать ему взбираться на гору, с которой он писал этюды, Верещагин не бросал работы. А условия были действительно ужасны. Солнце жгло ему голову и спину, в то время, как на груди от дыхания собирался лед, а пальцы едва могли держать палитру и кисть от холода. Лицо его пухло все более и более, глаза смотрели щелками, при этом он чувствовал ужасную боль в голове, которой не мог даже повернуть. При таких условиях он проработал целые три дня. «Лицо его так опухло», рассказывает Е. К. Верещагина, «боли в голове так усилились, что он, наверное, умер бы, если бы мы остались там еще дольше»[16 - Очерки путешествия в Гималаи г. и г-жи Верещагиных. Изд. 2, Спб. 1883. Ч. 1, стр. 36, 38–40.]. Как и раньше, Верещагин не пропускал ни одного удобного случая для своих этюдов. Останавливаясь нередко в буддийских монастырях, он писал лам, срисовывал характерные фрески, изображения богов, костюмы, здания, местности. Рисовать Верещагину никто здесь не препятствовал. Доступ в храмы был для него свободен, натурщики позировали за деньги совершенно спокойно. «Лама, почтенный старичок, толкался около разных домашних дел», рассказывает г-жа Верещагина об одном из таких натурщиков, «не выпуская из рук маленькой молитвенной машинки, которую вертел, приговаривая: „Ом мани падме хум! Ом мани падме хум“ и т. п. Когда муж написал этюд храма – он сказал ламе: „Постойте немного, я напишу вас!“ – „Хорошо, давай один рупи. – Сначала постойте, потом я дам. – Нет, сейчас давай, а то не буду стоять“. Взяв рупию, старик честно выстоял, пока фигурка его не была кончена»[17 - Очерки путешествия в Гималаи г. и г-жи Верещагиных. Изд. 2, Спб. 1883. Ч. 1, стр. 16.]. В другой раз зашел к Верещагину один тибетский чиновник, попросить пороху. Верещагин дал ему пороху, но сейчас же написал за это его широкую физиономию с толстым носом и длинными серьгами.
Верещагин не ограничивался одним писанием этюдов. Путешествуя, он постоянно пополнял свою этнографическую коллекцию, собирал разного рода утварь и одежду. В конце концов, у него образовался довольно значительный багаж, для передвижения которого требовалось 25 человек «кули», т. е. носильщиков. Найти же такое число носильщиков было далеко нелегко, и нередко В. В. Верещагину приходилось прибегать к самым решительным мерам. Так, например, в селении Лю, находящемся в провинции Чини, Верещагин, не найдя носильщиков, которые куда-то разбежались, забрал всех стариков, оставшихся по домам и считавших себя в совершенной безопасности от этой краткосрочной рекрутчины. Расчет оказался верен, так как сыновья пришли выручать своих отцов и потащали за них вещи. И тут, однако, не обошлось без хлопот. Один носильщик, пришедший сменить своего отца, на виду у всех бросил ношу и убежал.
Верещагин бросился за ним вдогонку и преследовал его довольно долго. Беглец потерял свой плащ и шапку, но все-таки скрылся. Это было скверным примером для других, и другие, по-видимому, задумывали поступить таким же образом. Тогда Верещагин прибегнул уже к самому решительному средству. Он вынул свой маленькие карманный револьвер и объявил, что выстрелит в спину тому, кто бросит вещи и убежит. Хотя револьвер был совсем миниатюрный, и пули походили на дробинки, но угроза произвела свое действие, и уже никто не пытался бежать.
Другой раз, путешествуя по Тибету, Верещагин должен был поступить довольно круто, когда у него старшина селения отказался принимать серебряную монету – рупию (80 коп.) иначе, как по 9 анна, тогда как они везде ходили по 10 анна. Верещагин призвал старшину и спросил его еще раз, примет ли он деньги по курсу.
– Нет!
Пощечина и вопрос: «Примешь ли деньги, как следует?»
– Нет!
Другая пощечина. «Примешь ли?»…
– Приму, приму!
Путешествие при таких условиях не могло, конечно, особенно благоприятствовать работе, но Верещагин все-таки написал огромное количество этюдов из индийской жизни, которые сейчас же отправил в Петербург В. В. Стасову, строго запретив кому бы то не было их показывать. Работа, для которой необходимо было тратить столько энергии и сил, вредно отзывалась на здоровье художника. С конца 1875 года Верещагин все чаще и чаще жаловался на свое нездоровье и полный упадок сил. В своем письме к Стасову, от 27-го ноября, он писал, что не может не работать, ни читать[18 - Кроме книг, взятых с собой, Верещагин читал здесь английские газеты и «Спб. Ведомости».]. В начале марта 1876 г. он писал Стасову из Агры: «Жара уже наступила, и я совсем без сил. Не знаю, как доберусь до Европы. Этюдов множество, задуманного еще, пожалуй, больше, а силенки плохи – предосадно». Доктора усиленно посылали его на родину, но он не решался выезжать, потому что не имел указа о своей отставке, задержанного в канцелярии туркестанского генерал-губернатора. «Пока не получу паспорта», писал он В. Стасову, «как мне ни нужно теперь побывать в Париже, я должен миновать русскую границу, ибо раз уже сидел в Вержболове, в кутузке-за беспаспортность»[19 - Произошло это в 1869 году. «Уже будучи георгиевским кавалером, но еще не известным художником, я ехал из Парижа в Петербург», рассказывал Верещагин. «Только на границе вспомнил, что забыл паспорт. Меня арестовали на границе при полиции; хотели посадить в кутузку с 3-мя ворами, по смиловались и дозволили нанять комнату в харчевне, причем, однако, квартальный сам запер все окна, а у дверей положил поперек страшного, оборванного и вонючего детину с дубиною и не постыдился на другой день, когда явился за мною, сказать мне (буквально): „Пожертвуйте этому гражданину двугривенный за то, что он стерег вас“. Повезли меня на жидовской фуре из Вержболова в Волковишки (я заплатил за фуру) к уездному начальнику, так как жандармский офицер в Вержболове, отказавшись пропустить, отказался и возиться со мною. В Волковишках я пробыл целый день, в продолженье которого полицейский не отходил от меня ни на шаг.Уездный начальник решил отправить меня в Петербург, но с полицейским, для которого я взял билет 3-го класса, а для себя новый билет 2-го класса. Всю дорогу полицейский входил и выходил за мною, чем смущал публику, не понимавшую присутствия его.В Петербурге представили меня в секретное отделение к г. Козлову, который, расспросивши, не нашел ничего лучшего, как отправить меня в ночлежный приют. Я воспротивился, и в виду еще этого нового расхода (даже отправка полицейского обратно пала на меня) дозволили мне призвать поручителя из знакомых, который пришел в ужас от рассказа обо всей этой глупой волоките».].
XVI. План «Индийской поэмы»
В апреле месяце, однако, Верещагин был уже в Париже, где нанял небольшую мастерскую в Отейле, так как его собственная мастерская, задуманная еще до отъезда в Индию, не была готова. «Друзья», которым он поручил устроить это дело, оказались людьми в высшей степени недобросовестными: за землю, купленную в Maisons-Laffitte, заплачено было вдвое дороже, чем следовало. Подрядчики были первостатейные плуты. Дело это окончилось процессом, и Верещагин поплатился довольно значительной суммой денег. Эго обстоятельство было тем более досадно, что по возвращении из Индии Верещагину необходима была хорошая мастерская. Написав огромную массу этюдов, запасшись новыми свежими впечатлениями, Верещагин задумал массу картин, которые так и просились на полотно. «Впечатления мои», писал он В. Стасову 14-го апреля 1876 г., «складываются в два ряда картин, в две поэмы: ода – короткая (так и назову ее „коротенькая поэма“), другая – длинная, в 20 или 30 колоссальных картинах. Придется, вероятно, еще раз съездить в Индию…» Для этой поездки и, особенно, для устройства задуманных им школ Верещагину нужны были деньги, а потому задуманные картины он решил продать, кому придется, «в случае нужды не брезгать и Англией, благо, для них Индия интересна». Нужны были и деньги также для задуманного издания своего индийского путешествия, которое он предполагал сделать, не прибегая к кошельку издателей. За год перед тем Верещагин задумал издать большинство своих туркестанских картин в виде иллюстраций к «Путешествию по Туркестану». Но самому рисовать было некогда, поручить же рисовать эти картинки постороннему художнику (В. М. Васнецову), даже не видевшему Средней Азии, как это сделали В. В. Стасов и А. К. Гейнс, писавший текст, Верещагин не захотел. Таким образом, не путешествие в Индию, не туркестанское путешествие, для которого было уже сделано несколько рисунков, не были изданы.
Между тем, несмотря на всякого рода недоразумения, около 1877 года был окончен домик Верещагина в Maisons-Laffitte с двумя огромными мастерскими. Одна из этих мастерских, длиною в 11 сажен, предназначалась для работы зимою. Освещалась она сбоку сквозь почти сплошную стеклянную стену. Другая, тоже очень большая, но круглая, была открытая, с небольшим, прикрытым лишь сверху от дождя и солнца, сегментом, и вся поворачивалась по рельсам на центральной оси, так что в продолжение целых дней, весной, летом и осенью, Верещагин мог работать в ней с освещением с той стороны, которая требовалась для той или другой его картины.
Устроив удобную мастерскую, Верещагин начал усиленно работать над выполнением задуманной им «поэмы», большая часть картин которой рисовалась в голове художника, «как живые». Прежде всего, он принялся за начатую уже раньше картину «Гималайские вершины». За ней должны были следовать: «Английские купцы, желающие образовать Ость-Индскую компанию, представляются королю Иакову I в Лондонском дворце», затем следовало представление тех же купцов уже в Ост-Индии: «Английские купцы представляются Великому Моголу» и т. д. Длинный ряд этих картин должен был, по плану художника, закончиться путешествием принца Уэльского по Индии в октябре 1875 г. Приступив к работе, Верещагин, однако, не строго придерживался своего плана, не писал последовательно вторую картину после первой, третью после второй и т. д., а сразу же принялся за картину заключительную: «Процессия английских и туземных властей в Джейпуре». Начал он ее раньше других потому, что, по его словам, «впечатление было сильно» и «просилось на полотно». В этой картине он хотел изобразить «торжество там, где еще недавно было унижение». На первом из четырех слонов, великолепно убранных, идущих гуськом один за другим, Верещагин изобразил в этой громадной и блестящей картине принца Уэльского сидящим рядом с индийским владыкой, магараджей, который так низко пал, что считает за честь и счастье сидеть рядом со своим европейским барином. Здесь же была написана картина «Великий Могол, молящийся в мечети, в Дели» и расчерчена картина «Послы английские перед Моголом». Послы эти изгибаются перед ногою, которая виднеется из ниши, где сидит Могол.
* * *
Весь алмазами залитый,
Среди пышного двора,
Индустана повелитель