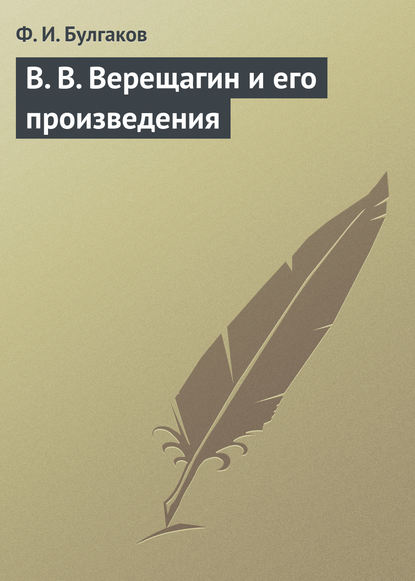По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В. В. Верещагин и его произведения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– У меня нет его, – отвечал Верещагин.
– Так я вам дам свой, – сказал Кауфман, снимая с себя крест.
– У меня некуда его привесить.
– В петлю.
– Да петля не прорезана.
– Я прорежу.
– Я не дам резать сюртука.
Несмотря на протест Верещагина, Кауфман взял ножик, прижал героя к стене, рискуя прорезать кожу вместе с сюртуком, прорезал петлю, привязал крест и крепко пожал руку.
X. На Китайской границе
После усмирения Самарканда Верещагин недолго оставался в Туркестане. В конце 1868 года он уже уехал в Европу и пробыл в Париже до 1869 года. Узнав, что Кауфман со всем своим штабом находится в Петербурге, Верещагин тоже приехал сюда и предложил устроить первую в России, большую «Туркестанскую выставку». Получив разрешение, Верещагин деятельно принялся за ее устройство. Он собрал свою коллекцию этюдов, у своего товарища по Туркестану, Северцова, взял зоологическую коллекцию, у горного инженера Татаринова – минералогическую, у разных лиц собрал вещи, одежды, украшения, образцы разных производств. Все это он сам очень художественно разместил в трех залах дома министерства Государственных имуществ. Гвоздем выставки, несомненно, были картины, этюды и эскизы самого Верещагина, для которых отведена была отдельная зала.
Из четырех главных картин две – «После удачи» и «После неудачи» принадлежали генералу Гейнсу, с которым Верещагин близко сошелся в Туркестан и которому он подарил немало своих произведений, в том числе и все этюды для картины «Бурлаки». Император Александр II и императрица Мария Александровна, посетившие выставку в первый же день, были поражены той ужасной, неподкупной правдой, которая выгодно выделяла эти картины Верещагина из ряда прежних «военных картин». Государь долго стоял перед этими двумя картинами. После окончания выставки обе они были поднесены Государю и постоянно висели в его кабинете. Третья картина «Опиумоды» очень понравилась великой княгине Александре Петровне. Кауфман, которому подарил ее незадолго перед этим Верещагин, поднес картину почти сейчас же после выставки великой княгине, которая в высшей степени восторгалась оригинальным, талантливым автором и его потрясающей картиной. Четвертая картина «Бача и его поклонники» была выставлена только в виде фотографии, так как оригинал был уничтожен самим художником еще в Париже. За несколько месяцев до выставки он показывал свои картины и этюды друзьям-художникам. Эту картину назвали здесь «неприличной», и впечатлительный Верещагин уничтожил оригинал, с которого осталось лишь 4–5 фотографических снимков. Несколько позже, она была напечатана в числе иллюстраций путешествий Верещагина по Средней Азии(«Tour du monde», 1873).
Эта выставка доставила Верещагину известность талантливого, совершенно оригинального живописца Востока.
По закрытии выставки весной 1869 г. Верещагин снова поехал в Туркестан[6 - Ни в Антверпене, ни в Брюсселе, ни на Дунае, как это сказано в статье В. В. Стасова, Верещагин не был, а потому не мог «наполнять целые альбомы карандашными рисунками и набросками».], написал здесь множество этюдов, сделал массу карандашных набросков, совершил путешествие по Киргизским степям и Семиреченской области до Чугучака, т. е. до границы Китая. Путешествовать в то время по границам Китая было далеко небезопасно, так как вся эта страна была объята войной китайцев с дунганами.
Пробраться за реку Хоргос, в город Чампандзи или интересовавшую Верещагина китайскую Кульджу и думать было нечего. Пришлось ограничиться обозрением пограничных, почти разрушенных русскими войсками китайских городков. В сопровождении офицера Эмана, Верещагин отправился в городок Турчень, оказавшийся небольшим селением, совершенно разрушенным и не представлявшим собой ничего любопытного. Почти не останавливаясь, Верещагин через селения Джаркенд и Ташкент добрался через некоторое время до Ак-Кента.
Сохранившийся несколько лучше других Ак-Кент представлял некоторый интерес, а потому Верещагин здесь остановился. Резиденцией во все время пребывания в этом город служила ему хорошо сохранившаяся главная кумирня города. Постоянно, день и ночь, на дворе горели два огромные костра для варки пищи и очищения воздуха. Все необходимое, кроме воды, за которой приходилось отправляться довольно далеко, было под руками, а потому Верещагин своей резиденцией был доволен вполне. Несколько беспокоили его только тигры, подходившие утром к стенам самой кумирне. Их мяуканье – рычанье составляло ежедневный утренний концерт, который дополнялся иногда воем волков. Верещагин чередовал свои работы и этюды масляными красками с охотою, в особенности на фазанов, которых в камышах было видимо-невидимо.
Подольше остаться в этих местах помешала лихорадка, которою В. В. Верещагин заболел здесь. Наскоро окончив начатые этюды, он возвратился к Борохудзиру, откуда намерен был уехать в Ташкент. Здесь, однако, пришлось совершенно неожиданно изменить этот план и направиться через Ак-Кент, Хоргос по желанному пути к Кульдже. Причиной была «летучка» из Лепсинской станицы от командира казачьего полка, извещавшего о том, что он, догоняя киргиз, угнавших у него табун лошадей, перешел через границу, отбил всех украденных у него коней, кроме того, захватил 20,000 голов разного скота, киргиз же, произведших этот дерзкие грабеж, побил и прогнал к озеру Лоб-Нору. Начальнику Борохудзирской крепости он предлагал встретить бегущие кочевья с юга и еще раз побить их, чтобы на долгое время отбить охоту барантовать в русских пределах. Предлог был как нельзя более удобный для того, чтобы перейти границу и пощипать соседей, на совести которых давно уже было несколько дерзких грабежей и даже убийств. Снарядили 60 человек пехоты, около сотни казаков, одно орудие и отправились. Верещагин, хотя еще и не вполне здоровый, присоединился к экспедиции, надеясь повысмотреть и порисовать на китайских пределах.
Рисовать, однако, пришлось мало. Русское «войско» явилось совершенно неожиданно в китайскую деревню Большой Мазир, без всяких затруднений захватило и угнало массу скота (около 4 тысяч голов), награбило всякого добра. Оставалось только безнаказанно уйти, но сделать это было нелегко. Жители, не желавшие терять скота, задумали его возвратить. Со всех сторон начал собираться народ, вооруженный копьями и шашками, в правильные сотенные части. Неприятель начал правильно облагать уходивших одним сплошным кольцом, оглашая воздух дикими криками и гиканьем. Верещагин относился к этому неприятелю совершенно равнодушно. «Я ехал с моим казаком», рассказывает он, «поодаль от отряда и, признаюсь, забавлялся, подпуская неприятельских джигитов на самое близкое расстояние; когда они, не видя орудия, подъезжали в упор и уже заносили копья – я направлял мой карманный револьвер (Смит и Вессон) прямо в физиономию смельчака, щелкал курок и… пригнувшись к седлу, отлетали они так же быстро, как и налетали. После нескольких неудачных попыток захватить меня врасплох, они подлетали уже менее стремительно и держались на более почтительном расстоянии. Это воевание было уморительно: „кель мунда“ (ступай сюда), кричали они, маша рукою и прибавляя крепкое словцо. – „Ех, сань мунда кель!“ (нет, ты ступай сюда), отвечал я, каюсь, тоже добавляя соленое выражение.» Действительно, джигиты, почти не имевшие ружей, страшно боявшиеся огнестрельного оружия, были не особенно страшным неприятелем, убегали, лишь только замечали, что на них наводили ружья, нередко даже незаряженные, но они брали массой, и были моменты, когда русскому отряду могло прийтись плохо. Однажды они с таким остервенением набросились на передовых казаков, что обратили их в бегство. Верещагин пробовал остановить бежавших, но получил такой удар пикою по голове, что едва удержался в седле. С большим трудом только удалось остановить казаков и прогнать преследовавших. Другой раз, положение было еще более опасным. Отряд был уже сравнительно не далеко от русской границы и укрылся на некоторое время в одной из пограничных крепостей. Ужасная теснота решительно не позволяла оставаться здесь, и потому решено было идти дальше.
«Бесконечное стадо наше», рассказывает Верещагин, «а с ним и мы уже выступили из города, на ровную поляну, когда пришло приказание от начальника отряда остановиться: „будем де ночевать в крепости“. Невозможно! – решили мы с Эманом; мыслимо ли защищаться в этих руинах, возможно ли поворачивать теперь назад нашим четвероногим, а главное – неужели дожидаться, чтобы к завтрашнему утру собралось вокруг нас все Кульджинское население, которое тогда действительно задушит отряд – и не только баранов не угнать, и самим не уйти.
Мы решили возможно поспешать к реке Хоргос, где кроме воды есть еще и большой защищенный оградой двор, тот самый, в котором остался наш обоз, под прикрытием 30 солдат.
– Пойдем, черт побери, – решил Эман, – пойдем далее, хоть бы мне за это попасть под суд!
Он уведомил начальника отряда, что поворотить стадо нет теперь никакой возможности и мы, не теряя веселого расположения духа, продолжали наше движение.
Ф. слышал потом, как один из бывших с нами тут казаков рассказывать товарищам: „Этот штатские полковник просто бедовый! Вертят папироски с ротным, да в пересмешку друг перед дружкой и идут прямо на киргиз“.
Думаю, что все бы обошлось благополучно, если бы Эман не был чересчур великодушен: солдатам своим он велел остаться и ожидать приказания начальника отряда, т. е. лишить наш авангард единственной поддержки, способной внушить спасительный страх неприятелю, и вся многотысячная масса скота, растянувшаяся уже на 2-х верстах, не имела иной защиты, кроме нескольких до полусмерти перепуганных китайцев с их традиционными луками и стрелами, нас двоих, да немногих казаков – этих последних из 6-ти осталось только 3, так как другие, видя опасность, под разными предлогами, улетучились.
– А ведь на нас сейчас ударят, – говорю я товарищу.
– Может ли быть! – хладнокровно отвечает финляндец. Он потерял на привале свои очки и теперь тщетно поворачивал близорукие глаза, выпуклые зрачки которых ничего не видели далее нескольких сажен.
– Вот, посмотрите, сейчас ударять!
– Да где вы их видите?
– Как где? Это-то что же кругом? – говорю, указывая на массы, нас облегавшие.
– Будто все это неприятель? Представьте себе, ведь я думал, что это кусты!
– Неужели, однако, вы до такой степени плохо видите?
– Да. Помните место, где мы закусывали в Сассах: там я оставил мои очки и глаза вместе с ними.
Ну, думаю, хорошо иметь такого зрячего товарища.
– А это что такое, эти высоте предметы – это деревья?
– Нет, это знамена, смотрите, сколько их тут!..
– А! Как странно! Этого я не предполагал.
Только что успел я послать одного из казаков к начальнику отряда, с известием об опасности и для нас, и для баранов наших, как все кругом дрогнуло, застонало и, потрясая шашками и копьями, понеслось на нас! Признаюсь, минута была жуткая. Эман опять с шашкою, я с револьвером, но, уже не гарцуя, а прижавшись один к другому, кричим: „ура!“ и… ожидаем нападения.
Без сомнения, из нас были бы сделаны отбивные котлеты, как то случилось с одним из бывших около нас двух казаков (другой успел удрать), но мы спаслись тем, что, во-первых, неприятель больше зарился на наш скот, чем на нас самих; во-вторых, Эман, а за ним и я свалились с лошадей: со слепа мой товарищ заехал в ров и, полетевши через голову, так крепко ударился лбом о землю, что остался распростертым. Моя лошадь споткнулась на него: я тоже слетел, но успел удержать узду и, вставши над лежавшим, не подававшим признака жизни, приятелем, левою рукою держал повод лошади, а правою – отстреливался от мигом налетевших и со всех сторон окруживших нас степняков: так и норовили, подлецы, рубнуть шашкою или уколоть пикою, но или выстрел, или взвод курка удерживали их, не допускали слишком близко. Едва успеваю отогнать одного, другого, от себя, как заносят пику над спиною Эмана, третий тычет сбоку, четвертый, пятый сзади – как только я не поседел тут! Признаюсь, я думал, что товарищ мой ловко притворился мертвым, но он мне рассказывал после, что страшно ударился при падении и только, как сквозь сон, слышал, что ходили и скакали по нем. Спасение наше было то, что эти господа, видимо, считали револьвер мой неистощимым, я выпустил только четыре заряда, понимая, что пропаду, если буду еще стрелять, и больше стращал: уже пики приближались со всех сторон, и исковерканные злостью физиономии скалились и ругались на самом близком расстоянии.
Затрудняюсь сказать, сколько времени продолжалось мое неловкое положение – мне-то казалось долго, но, в сущности, вероятно, не более одной минуты, – как вдруг все отхлынуло и понеслось прочь так же быстро, как и принеслось: это подбежали к нам на выручку солдаты, – лошадь Эмана промчалась мимо них, унтер крикнул: „выручай, братцы, ротного убили!“ и они все бросились, сломя голову, вперед.
Затем прискакало орудие, лихо снялось с передков, и после первого выстрела не осталось никого около нас, а после второго – и около баранов, отогнанных было, но снова теперь нами захваченных. Надобно сказать, что все это случилось очень быстро, быстрее, чем я рассказываю, и сопровождалось сильнейшим шумом: с бранью налетали киргизы, с бранью я отстреливался, с бранью стреляли солдаты, с бранью же, наконец, взмахнуть шашкою и Эман, когда, очнувшись и вскочив на ноги, успеть еще рубнуть одного из всадников, конечно, ускакавшего умирать.
Очевидно, шум и крики входили в систему устрашения у нашего неприятеля, да отчасти и нас самих. Впрочем, и в наиболее дисциплинированных войсках, во время действия, потребность пугать неприятеля и подбодрять себя шумом сказывается еще в наше время.»
Атака эта, к счастию, окончилась благополучно для Верещагина. Художник, описавший свои приключения на Китайской границе в рассказе «Набег», вышел целым и невредимым, сделал немало этюдов, запасся темами для своих картин. Все картины, производившие позже такое огромное впечатление на выставках в Лондоне, Вене и Петербурге, написаны им были уже в Мюнхене.
XI. В Мюнхен
В Мюнхен приехал Верещагин в 1871 году и занял мастерскую известного художника Горшельта, с которым он познакомился там же. Горшельт жил в доме фотографа и печатника Обернетера (Шиллер-Страссе, 20). Когда, однажды, Верещагин принес последнему несколько своих рисунков для воспроизведения, Горшельт очень долго рассматривал их и хвалил. Это положило начало знакомству, которое через некоторое время перешло в тесную дружбу. Между обоими художниками установились совершенно простые и прямые отношения. Незадолго до смерти, например, Горшельт показал Верещагину свой акварельный рисунок, изображавший баварских солдат под Страсбургом ранним утром. «Не яичница ли это?» нервно спрашивал он его при этом, «только правду скажите, пожалуйста, правду». В свою очередь, Верещагин пристал к нему с просьбою сказать правду о том, сколько он работать некоторые из своих рисунков.
– Только говорите правду, – просил Верещагин. – Художники всегда подвирают, уменьшают, чтобы казаться гениальными, работающими легко…
– Этот рисунок, – сказал, засмеявшись и немного подумав, Горшельт, – я делать семь, дней, т. е. семь дней приходил на то же место.
– Ну, вот спасибо, – отвечал ему на это Верещагин: – А то эти обыкновенные ответы «полчаса», «два часа» и проч. приводят меня в отчаяние. Я так тихо рисую, мне так трудно дается, что я принужден считать себя какою-то тупицею сравнительно с другими, уверяющими, что труднейшие наброски они делают час или два. Я употребляю на все громадный труд, только скрываю его.
Верещагин был очень озабочен подысканием для себя новой мастерской, так как та, в которой он работал, была очень плоха. Горшельт принять живое участие в этом деле и обещал Верещагину пойти с ним посмотреть другую.
– Ну, а вот такая годилась бы вам? – спросил он его, указывая на свою.
– Еще бы, да где же такую достать!
Условились, что в субботу утром Верещагин зайдет к нему, а затем вместе отправятся на поиски. В субботу, однако, пришел его сынишка и сообщил Верещагину, что «папа нездоров», а потому не может идти. В понедельник вечером Верещагин был в концерте и здесь услышать, что Горшельт умер. Не веря слухам, Верещагин ушел из концерта, отправился на квартиру Горшельта и здесь узнал, что он действительно умер, заразившись скарлатиной от своего ребенка (3 апреля 1871 г. н. с). Вдова спросила его при этом, не хочет ли он занять мастерскую покойного, которую у нее просят чуть не двадцать человек. Предложила же она первому Верещагину потому, что муж, всегда восхищавшийся его рисунками, собираясь переходить профессором в Академии на готовую мастерскую, выражал намерение передать свою, помимо всех других, Верещагину. Последний, конечно, принял предложение.