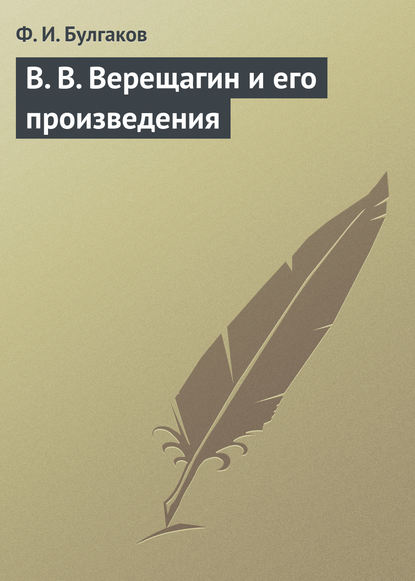По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В. В. Верещагин и его произведения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что вы это делаете, сударь?
– Рисую избу, как видите.
– Позвольте спросить вас, с какою целью-с вы это делаете?
– Да так себе, для развлечения, хочу ее начертить себе на память…
– Позвольте, я вас покорнейше прошу не продолжать срисовывать.
– Это почему?
– Заметьте, сударь, что изба эта только на время заменяет станцию. Станционный дом скоро-с будет готов.
– Но мне решительно все равно, выстроится станция или нет. Я рисую просто ради препровождения времени.
– Будьте-с так добры, не пишите об этом. Беспорядок в ней, право, случайный-с… Постройка новой станции…
– Ну, вас всех прах побери!
Желая поскорее избавиться от их докучливости, я закрыл свой альбом.»
Все рисунки, сделанные Верещагиным в эту поездку, были замечательны. Пересмотрев их, Жером и Бида больше прежнего начали приставать к автору, чтобы он вместо карандаша принимался скорее за краски. «Никто не рисует так, как вы», говорил ему после этого Бида, воспользовавшийся с разрешения Верещагина одним из его рисунков (мальчика в школе, пишущего на колене) для своего евангелиста Луки. Кое-где, в своих знаменитых иллюстрациях к изданному им Евангелию, Бида пустил в ход некоторые характерные восточные черты, заимствованные из альбомов Верещагина.
На основании этюдов, сделанных на Кавказе, В. Верещагин, по возвращении в Париж в конце 1865 года сделал два больших превосходных рисунка черным карандашом: «Духоборы на молитве» и «Религиозная процессия мусульман в Шуше». Оба эти рисунка, находящиеся в Третьяковской галерее, в Москве, были выставлены сначала на Парижской художественной выставке (1866 г.), а затем появились на академической выставке, в Петербурге (1867 г.). Жером и Бида, по словам Клареси («Temps», 1881 г. дек.), были в восхищении от оригинальности и типичности действующих лиц. Отрывки из своего путешествия с целым рядом очень любопытных иллюстраций Верещагин напечатал сперва в журнале «Tour du monde», в 1868 г., а затем то же самое поместил во «Всемирном путешественнике» за 1870 год. Большинство характернейших из этих рисунков воспроизведено и в настоящем издании в копиях с клише, резанных в те годы в Париже.
Всю зиму с 1865 на 1866 год Верещагин провел в Париже, работая по 15–16 часов в сутки, отказываясь решительно от всех удовольствий, не исключая даже театра и концертов.
Весной 1866 года он уехал из Парижа к отцу, в село Любец, доставшееся ему по наследству после смерти дяди, Алексея Васильевича. Это богатое и красивое село, раскинувшееся по берегу реки Шексны, дало возможность В. В. Верещагину наблюдать бурлаков, которых в 60-х годах еще было довольно много. Загорелые, оборванные, кто в шапках, кто и вовсе без шапок, с всклокоченными волосами, босиком, черпая время от времени пригоршнями водицу из реки и распевая свою монотонную песню, тянулись бурлаки огромными толпами через с. Любец. Бурлаков Верещагин видел еще в раннем детстве, живя в Петровке, но тогда они его только пугали. Теперь бурлаки заставили его задуматься и сесть за большую картину, начатую летом 1866 года. Как известно, этим же сюжетом воспользовался и П. Е. Репин, но значительно позже Верещагина. Кроме того, идея Репинских «Бурлаков» значительно отличается от идеи Верещагина. У Репина тянут лямку 10 человек. Где не тянуть так барок? и в Бельгии, и в Египте, и в Швеции… У Верещагина тянуло барку 250 человек, да за первою баркою шла вторая, опять в 250 человек, третья – столько же и т. д. Тут более, чем где-нибудь, другой тон должен был создать другую музыку. А «беда моя», писал мне В. В. Верещагин по этому поводу, «была в том, что, занявшись рисунками для насущного хлеба, я не имел времени исполнить картину, так и оставшуюся в эскизе и этюдах. Однако, товарищи все знали, что я пишу эту картину»…
Сделав довольно много этюдов (они находятся в настоящее время в галерее П. М. Третьякова, Верещагин, не окончив картины, снова уехал в Париж работать в «Ecole des beanx arts» у Жерома и оставался здесь до самого отъезда в Туркестан.
IX. В Туркестан
До сих пор Верещагин только учился, хотя учился далеко не по шаблону. Он выработал для себя совершенно новую, независимую систему обучения. Он учился не только в классах, на натуре, но и на отдельных лицах, людях, животных, природе. «От этого», говорил он нам, «я пишу теперь все. Хвалят мои пейзажи и даже покупают их, хвалят архитектуру, иногда животных, портреты мои называют типичными, фигуры живыми. Это правда, что величайший современный художник Менцель, глядя на мой „Перевязочный пункт“, сказал: „der kann Alles“ (этот все может). Может быть, да и вероятно, что эта сравнительная разносторонность утвердилась на том „рисовании всего“, которое я практиковал всегда.»
Единственно желание учиться заставляло его ездить из Петербурга в Париж, из Парижа на Кавказ, позже в Индию и Туркестан. Верещагин искал только нового и свежего материала, новых тем. Нужно ли было Верещагину, спрашивает В. В. Стасов, жить в молодые годы так долго в Париже и учиться у Жерома вместе с Бида? Конечно, он мог бы жить и в России, но тогда он не мог бы войти так в самого себя, не мог бы так уединиться. С этой же целью ездил он и на Восток. «Я учился на Востоке», писал он мне, «потому что там было свободнее и вольные учиться, чем на Западе. Вместо парижской мансарды или комнаты Среднего проспекта Васильевского Острова, у меня была киргизская палатка, вместо натурщиков – живые люди, наконец, вместо кваса и воды – кумыс и молоко! Я настаиваю на том, что я учился и в Туркестане и на Кавказе – картины явились сами собой, я не искал их. Везде, и в Туркестане и в Индии, этюды знакомили с страною, учили меня – результатом являлись картины, созревавшие гораздо позже.» Справедливость этих слов всего лучше доказывается поездкой в Туркестан. Верещагин, принимавший непосредственное участие в целом ряде битв, писавший на месте почти исключительно этюды, по возвращении в Европу написал целый ряд картин, которые доставили ему громкую и вполне заслуженную славу.
«Я поехал в Туркестан случайно», говорит В. В. Верещагин, «и до сих пор не знаю, ладно ли седлал, что поехал; вероятно, ладно. Поехал же потому, что хотел узнать, что такое истинная война, о которой много читал и слышал и близ которой был на Кавказе».
Произошло это вот каким образом, по сообщение самого художника. Однажды проф. Бейдеман сообщил В. Верещагину, что Ф. Ф. Львов говорил ему, будто генерал Кауфман, назначенный туркестанским генерал-губернатором, желает взять с собою художника. «Не желаете ли вы?» спросил при этом Верещагина Бейдеман. «Неужели вы не поедете?» переспросил он, видя, что тот задумался.
Верещагин решительно ответил: «поеду», пошел сейчас же к Львову, а от него прямо к К. И. Кауфману, с которым порешил с двух слов. «Я сказал ему», писал мне Верещагин, «что еще мало пробовал свои силы, но могу показать несколько рисунков, и прибавил, что „ничего не делаю кое-как, на все прилагаю все мое старание“». Рисунки, а также удостоверение в том, что он был в Академии и получил 2 серебряные медали, решили дело в желательном для Верещагина смысле. К. П. Кауфман приказал ему готовиться к отъезду, который состоялся только в августе 1867 года. Поехал Верещагин в качестве «прапорщика, состоящего при генерал-губернаторе», но выговорил себе право – свободно разъезжать по краю и не носить формы. Кроме того, он условился с Кауфманом, что он ему не будет давать чинов. «Впоследствии», рассказывает Верещагин, «несмотря на неоднократные попытки, я отстоял это условие. Немало бывало смеха в канцелярии генерал-губернатора, когда я приходил браниться за то, что мне хотят дать чин. „Что не дают чина – жалуются часто и бранятся с нами очень многие“, говорил со смехом делопроизводитель Лазарев, „но что бранятся за производство – это новое“».
Когда приказ о назначении К. П. Кауфмана генерал-губернатором был получен, В. В. Верещагин отправился в путь и месяца через полтора добрался до Ташкента, где просидел почти всю зиму, работая над этюдами. Как в дороге, так и здесь, несмотря на то, что, по его словам, «проехать от Оренбурга до Ташкента – сущая каторга», Верещагин без устали рисовал и рисовал. Весной 1868 г. он оставил Ташкент и отправился на юг по направлению к Ходженту. Киргизская деревня Бука обратила особенное внимание Верещагина, и он думал было уже остаться здесь подольше и порисовать, как вдруг получил известие, что бухарский эмир в Самарканде собирается воевать с Россией. «Я был несколько дней уже в Буке», пишет он в «Tour du monde» 1873 г., «как вдруг узнал из только что полученного письма, что Россия готовится к походу на Бухару и что авангард нашего отряда даже выступил. Раньше этого известия я весь был предан мирным занятиям, восхищался природой, – прогуливался, расспрашивал, писал, рисовал. Война, и так близко от меня, в сердце Средней Азии! Мне захотелось увидать из близи свалку битв и я тотчас же покинул деревню Бука, где собрался пробыть гораздо дольше»…
Несмотря, однако, на все свое желание присутствовать при взятии Самарканда, Верещагину это не удалось. Он был задержан комендантом крепости Яны-Курган, отправился в путь только «с оказией», а потому и прибыл в Самарканд на другой день после взятия города. Впрочем, и без того сам город представлял интерес для Верещагина. Ежедневно он ездил в город и за город, осматривал мечети, базар, училища, особенно старые мечети, между которыми уцелело немало чудных образцов. Первое время он даже был как бы подавлен богатством и разнообразием материала. Природа, постройки, типы, костюмы, обычаи, все было ново, оригинально, интересно. Возбужденное, даже враждебное настроение местного населения нисколько не мешало ему заниматься своим делом. Верещагин совершенно не обращал внимания на предостережения друзей, указывавших на опасность, на явные признаки готовившегося восстания. «Когда мне вздумалось раз», говорит он, «для сокращения пути к цитадели, свернуть с большой базарной дороги и проехать узенькими кривыми улицами, на одном из поворотов открылся большой двор мечети, полный народа, между которым ораторствовал человек в красной одежде – очевидно, посланец бухарского эмира. В довершении всего я встретил моего приятеля, старшего муллу мечети Ширдари, идущего по базару и жестами и голосом возбуждавшего народ.
– „Здравствуй, мулла“, сказал я ему; он очень сконфузился, но вежливо ответил и волею-неволей перед всеми должен был пожать протянутую ему руку».
Очевидно, что готовилось восстание. Кауфман, однако, не мог долго оставаться в Самарканд, а потому, оставив здесь под командой барона Штемпеля небольшой гарнизон человек около 500 и приказав поправить крепостную стену, отправился дальше. В городе, кроме того, оставались также человек 200–300 больных или раневых русских солдат.
* * *
Отъезд Кауфмана возбудил некоторый надежды неприятеля. Узбеки, тайно сговорившись с жителями Самарканда, вдруг огромными массами окружили город и сделали последнее усилие, чтобы освободить Тамерланову столицу. Верещагину пришлось не только увидеть войну, но и принять в ней самое живое участие. Нападение узбеков заставало бросить Верещагина начатый этюд, не дало окончить «афганца, которому оставалось только дописать ноги»[3 - Этот афганец без ног был приобретен И. Н. Терещенко.]. Вот что рассказывает об этом сам Верещагин:
«Только что», говорил он, «я сел пить чай, поданный мне моим казаком, собираясь идти дописывать своего афганца, как раздался страшный бесконечный вой: ур! ур! вместе с перестрелкой, все более и более усиливавшийся. Я понять серьезность дела – штурмуют крепость! – схватил мой револьвер и бегом, бегом по направлению выстрелов, к бухарским воротам! Вижу: Серов, бледный, стоит у ворот занимаемого им дома и нервно крутит ус – обыкновенный жесть этого бравого и бывалого казака в затруднительных случаях.
– Вот так штука, вот так штука! – твердит он.
– Что, разве плохо?
– Покамест еще ничего. Что дальше будет? У нас, знаете, всего на всего 500 человек гарнизона, а у них, по моим сведениям, свыше 20 000.
Я побежал дальше. Вот и бухарские ворота. На площадке над ними солдатики, перебегая в дыму, живо перестреливаются с неприятелем; я вбежал туда и, видя малочисленность наших защитников, взял ружье от первого убитого около меня солдата, наполнил карманы патронами от убитых же и 8 дней оборонял крепость вместе со всеми военными товарищами и это, кстати сказать, не по какому-либо особенному геройству, а просто по тому, что гарнизон наш был уж очень малочислен, так что даже все выздоравливающее из госпиталя, малосильные, были выведены на службу для увеличения числа штыков – тут здоровому человеку оставаться праздным было грешно и просто немыслимо.»
И, вместе с полковником Назаровым, руководившим обороной, Верещагин не щадил себя, сражался в самых опасных местах, брал на себя самые опасные поручения. Однажды, например, розданы были солдатам ручные гранаты для бросанья через стены в неприятельские толпы. Но так как неприятель почему-то совершенно затих, то никто решительно не знал, куда бросать. Нужно было посмотреть через стену, где неприятель и что он делает. Офицеры посылали нескольких солдат, но те отнекивались, один толкал вперед другого: смерть почти верная.
– «Постойте, я учился гимнастике», сказал Верещагин, и прежде чем Назаров успел закричать: «Что вы, Василий Васильевич! Перестаньте, не делайте этого!» – он уже был высоко.
Как не уговаривал его Назаров, он все-таки не сошел. «Стыдно было», рассказывает об этом Верещагин, «хотя, признаюсь, и жутко. Стою там согнувшись под самым гребнем, да и думаю: „как же это я, однако, перегнусь туда, ведь убьют, думал, думал – все эти думы в такие минуты быстро пробегают в голове, в одну, две секунды – да и выпрямился во весь рост! Предо мной открылась у стен и между саклями страшная масса народа, а в стороне кучка в больших чалмах, должно быть, на совещании. Все это подняло головы и в первую минуту точно замерло от удивления, что и спасло меня. Когда они опомнились и заревели: „Мина! мина!“ т. е. вор, вор! – я уже успел спрятаться – десятки пуль влепились в стену, над этим местом, аж пыль пошла“».
Верещагин подолгу стаивал с ружьем наготове, ожидая, не появится ли где-нибудь загорелая башка, все почти время проводил на стене, где «тешился» стрельбою. «Нет, нет, да имеешь удовольствие видеть», говорит он, «как упадет подстреленный зайчик». Не при каких обстоятельствах Верещагин не терялся, всегда взвешивал свои поступки и действовал совершенно спокойно и уверенно. Шум и гвалта были отчаянные, – описывает Верещагин один из штурмов, – солдаты без толку стреляли на воздух.
– Да не стреляйте в небо, – закричать им Верещагин, – в кого вы там метите!
– Пужаем, Василий Васильевич, – отвечает один пресерьезно.
«Помню, я застрелил тут двоих из нападавших, если так можно выразиться, по-профессорски. „Не торопись стрелять“, говорил я, „вот положи сюда ствол и жди“. Я положил ружье на выступ стены, как раз в это время туземец, ружье наперевес, перебежал дорогу, перед самыми воротами. Я выстрелил, и тот упал убитый на повал. Выстрел был на таком близком расстоянии, что ватный халат на моей злополучной жертве загорелся, и она, т. е. жертва, медленно горевший в продолжена целых суток, совсем обуглилась, причем рука, поднесенная в последнюю минуту ко рту, так и осталась, застыла… Другой упал при тех же условиях и тоже наповал. „Ай, да Василий Васильевич“, говорили солдаты, „вот так старается за нас!“»
Присутствие Василия Васильевича, действительно, оказывало на солдат ободряющее действие. Бывали случаи, что совершенно упавшие духом воодушевлялись, благодаря мужественному призыву Верещагина, всегда державшему себя таким образом, как будто бы ничего страшного не было, никому и ничего не грозило. Однажды, например, узбеки совершенно неожиданно сделали приступ, сильнейший из всех бывших до сих пор. Верещагин в этот момент объезжал рыжего туркмена, захваченного на вылазке. «Передавши лошадь первому казаку», рассказывает он, «я бросился к битве. Узбеки, должно быть, давно уже прокрались к стенам через сакли, которые к ней в этом месте, т. е. у самых ворот, примыкали, разобрали стену так тихо, что решительно никакого шума мы не слыхали, и через постройки, выходившие на эту сторону, ринулись на наше орудие. При этом, кроме пуль, посыпался через кровли саклей целый град, очевидно, заранее приготовленных камней. Первое приветствие, полученное мною, был страшный удар камня в левую ногу. Я взвыл от боли! Думал, нога переломлена; нет, ничего. Все кричат ура, но вперед не идет никто. Вижу, в самой середине Назаров, раскрасневшийся от злости, бьет солдат на отмах шашкою по затылкам, понуждая идти вперед, но те только пятятся. „Черкасов!“ раздается его голос, „лупите вы этих подлецов!..“ Мысли, буквально, с быстротою молнии мелькают в такие минуты: моя первая мысль была – не идут, надо пойти впереди; вторая – вот хороший случай показать, как надобно идти вперед; третья – да, ведь, убьют наверно; четвертая – авось, не убьют! Двух секунд не заняли все эти мысли; впереди лежали наваленные какие-то бревна, – в моем очень непредставительном костюме, сером пальто нараспашку, серой же пуховой шляпе на голове, с ружьем в руке, я вскочил на эти бревна, оборотился к солдатам и, крикнувши: „Братцы, за мной!“, бросился в саклю на неприятельскую толпу, которая сдала и отступила. Я хорошо помню все мои действия с побуждения и сознательно разбираю их: первое мое движение, прибежавши благополучно в саклю, было встать в простенок между окнами, в которые убежавший неприятель крепко стрелял, и таким образом сохраниться от пуль; то же сделал вбежавший за мною Назаров, благополучно миновавший фатальное пространство, но многие из следовавших за нами солдат попались; не мало убито наповал, много ранено, а некоторых, увлекшихся преследованием, неприятель захватил в плен и, отрезав им головы, унес. Один солдатик чуть не сшиб меня с ног: раненый в голову, он так чубурахнулся об меня, что совсем закровянил пальто мое. Он хрипел еще, я вынес его, но он скоро умер, бросив на меня жалкий взгляд, в котором мне виделся укор: зачем ты завлек меня туда! Эти взгляды умирающих остаются памятными на всю жизнь!»
Как часто рисковал Верещагин жизнью, можно судить по одному тому, что при этом штурме одна пуля сбила у него с головы шапку, а другая перебила ствол ружья, как раз на высоте груди[4 - Ружье это по миновании надобности он бросил в общую кучу, о чем потом жалел, потому что оно было прострелено пулей и, кроме того, имело согнутый штык.]. Особенно рисковал он, когда решился взять красное знамя, привязанное узбеками к воротам крепости. Снять его было трудно потому, что, занявший дома противоположной улицы, узбеки продолжали стрелять по русским.
Верещагин под градом пуль отвязал знамя и отнес полковнику Назарову, который отдать этот трофей солдатам на портянки.
Сильно увлекавшийся и никогда не думавший об опасности, Верещагин всегда был впереди всех, не обращая внимания, следуют ли эти «все» за ним. Бывали случаи, что он значительно опережал солдат, как бы живьем отдавался в руки неприятелю и спасался только благодаря случайности, положительно чудом.
«Отряд наш, назначенный для вылазки», рассказывает он об одном из таких случаев, «оставивши часть солдат с офицером у Бухарских ворот, направился к Джужакским, где после выстрела из орудия и дружного „ура“ Назаров как кошка бросился за стену. Я скоро обогнал его, побежал впереди и на повороте в первую уже улицу лавок приостановился, подзывая товарищей: передо мной врассыпную бежало множество народа; некоторые, оборачиваясь, стреляли; большинство без ружей, с батиками[5 - Батик – палка с железным шаром и зубцами на конце.] и саблями, спасалось. Здесь случился со мной такой казус: с криками „ура!“ мы бежим по улице; я валяю впереди и, увлекшись преследованием двух сартов, забегаю в улицу направо; они – еще направо, я – за ними. Передний успел шмыгнуть в ворота, а заднего я нагнал: он прислонился к углу и ждал меня с батиком; я размахнулся штыком, но платье было толстое ватное, да к тому же детина с отчаянием уцепился за штык, отвел удар и, в свою очередь, замахнулся на меня батиком. Мы схватились врукопашную. Я не нашел ничего лучшего, как колотить его по голове, а в кулаке-то у меня была коробочка со спичками для зажигания домов – спички-то воспламенились и обожгли мне руку. Видя такой неумелый прием борьбы, противник мой, крепкий с проседью мужчина, ободрился, опустил свое оружие и стал отнимать у меня мое. На беду, другой сарт, спасшийся было в ворота, тоже показал снова свой нос. Я понял, что меня сейчас убьют – кругом не было не души – и, что есть силы, закричал: „Братцы, выручай!“, закричал почти безнадежно, но солдаты услышали: один прибежал, ружье на руку, размахнулся, – но тот с отчаянием уцепился и за этот штык; тогда солдат снова размахнулся – на этот раз штык глубоко вошел – и мой противник склонился. Я от души поблагодарил солдата за спасение и обещал ему 10 рублей. Эта штука, однако, не исправила меня, и сейчас же вслед затем я нарвался второй раз. То же бесконечное „ура“ и погоня за утекающим неприятелем, из которых несколько человек вскочили в лавку, я за ними, опять крепко опередивши товарищей. Как они набросятся на меня, несколько-то человек, один чем-то дубасить, другие выдергивают ружье. Признаюсь, у меня была одна мысль: батюшки мои, отнимут ружье, срам! Опять подбежали солдаты, выручили, переколовши всех.»
Ужасы, сопровождавшие осаду Самарканда, свидетелем и участником которых был Верещагин, сильно запечатлевались в его памяти и впоследствии послужили ему сюжетами для целого ряда картин. Так, например, его картина: «У крепостной стены. Тсс!.. пусть войдут!» изображает тот момент, когда узбеки устремляются к замеченному ими в крепостной стене пролому. Верещагин и полковник Назаров с солдатами притаились у стены и ждут. «Пойдем на стену, встретим их там», шепчет Назарову Верещагин, которому надоело ждать. «Тсс!» отвечаете тот: «пусть войдут!».
Целых восемь дней пришлось Верещагину жить такой жизнью: отражать нападения, делать вылазки, стрелять других и себя подставлять под выстрелы… Небольшой отряд, защищавший Самарканд, не рассчитывавший не на какую помощь, совершенно выбился из сил. Ощущался недостаток в воде и соли. Джигиты, которых комендант посылал с записками, написанными на немецком языке, к К. П. Кауфману, прося у него помощи, не возвращались и приводили еще в большее уныние осажденных. Отчаяние дошло до такой степени, что на военном совете решили драться до последней крайности и, если одолеют, т. е. войдут в крепость, то собраться всем в ограду эмирова дворца, сколько можно будет – защищаться и затем взорваться… Даже Верещагин, самый ретивый и неутомимый из защитников Самарканда, тоже начинал чувствовать усталость. После одного из последних приступов он задался вопросом: «а что если так будет еще несколько дней, – хватит сил или нет?» и ответил: «вряд ли»…
К счастию, Кауфман, сильно беспокоившийся о судьбе Самарканда, из которого не получал никаких вестей, разбив эмира под Зера-Булаком, решил возвратиться в Самарканд, тем более, что носились упорные слухи, будто крепость эта штурмуется и даже взята восставшими жителями. Записка, в которой Кауфман извещал о своем скором прибытии, сразу всех оживила, ободрила. Осаждавшие не могли не заметить, что их дело проиграно, и потому рассеялись, почти прекратили свои нападения. Кауфман действительно явился на другой день, жестоко наказал восставших и отдал приказ не щадить никого и ничего.
Получив свежий батальон, полковник Назаров сейчас же, несмотря на усталость, отправился исполнять приказание Кауфмана «жечь город». Верещагин, которого он звал с собой, отказался. Усталый, с надорванными нервами, он лежал под простыней. Но спать не мог. Через некоторое время его потребовали к Кауфману, который высказал ему перед всем своим штабом благодарность за его геройские подвиги, о которых говорили в один голос все, начиная с коменданта Штемпеля и кончая простым солдатом. Все товарищи приписывали Верещагину одну из главных ролей в защите крепости. Раненые солдаты, сложенные во дворце эмира, обрадованные возвращением русских, громко заявляли, что «не будь тут Василия Васильевича, пропал бы Самарканда». Поэтому вполне естественно, что, когда собралась георгиевская дума для разбора дел, достойных георгиевского креста, то первому и единогласно крест был присужден Верещагину, затем уже барону Штемпелю, саперу Черкасову и капитану Шеметилло. Враг всякого рода чинов и знаков отличия, Верещагин не носил этого ордена, хотя он и льстил нисколько чувству тщеславия Василия Васильевича.
Значительно позже на это обратил внимание Кауфман. Однажды, когда Верещагин в Петербург сидел у него в кабинет, Кауфман спросил его, почему он не носит георгиевского креста.