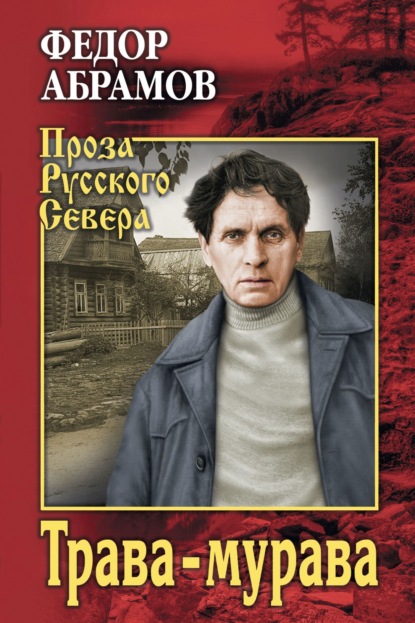По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Трава-мурава
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Помню, меня покоробила тогда эта «Шура», отдающая каким-то скороспелым, уличным знакомством. Я даже подумал, что у нее, наверно, и на руке-то наколота эта самая «Шура», – видал я таких. Да и вообще весь ее облик никак не вязался с тем, что говорила о ней Зина. Маленькая, худенькая, невзрачная. На голове пестрая шерстяная косынка, как повязка, стягивающая щеки при зубной боли. (Слава богу, такие косынки, еще несколько лет назад захламлявшие многочисленные ларьки промысловых артелей, теперь стали исчезать.) Ну чем тут соблазниться?
– Зиночка, я на минутку. Стирального порошка у тебя нету? Я со стиркой разобралась.
Зина подозрительно покосилась на гостью.
Я ради приличия пригласил ее к столу.
– Не знаю, разве что за компанию, – неуверенно сказала она и бросила выжидательный взгляд на хозяйку.
В руках у Зины с треском заходили вязальные спицы.
– Давай, давай – подождет твоя стирка, – сказал Аркадий.
– А и правда, успею. Ночь-то длинная.
Шура живехонько скинула резиновые сапоги, сняла косынку, пальто. В коротеньком бордовом платьице (Зина, пожалуй, была права насчет ее гардероба), в простых нитяных чулках в резинку, вероятно приобретенных в детском отделе, она показалась мне еще невзрачнее, а когда села за стол напротив величественной, полногрудой Зины, то и вовсе потерялась.
Мне так и не пришлось произнести тост.
Два Ивана стремительно, точно боясь, что может возникнуть еще какая-нибудь заминка, чокнулись. Вслед за ними выпили и остальные, за исключением Зины, которая только пригубила. Потом так же поспешно выпили по другой: всех, по-видимому, угнетало угрюмое молчание хозяйки.
Аркадий раза два наклонялся к ней, что-то шептал на ухо, но складка над переносьем у Зины даже не дрогнула. Тогда Аркадий, тряхнув светлым чубом, решительно схватил Зинину рюмку и опрокинул себе в рот.
Все было рассмеялись, но, встретившись с помрачневшим взглядом хозяйки, опять примолкли.
Шура первой нарушила молчание, обращаясь ко мне:
– Вы, наверно, к нам на охоту?
– Да, на охоту.
Я сказал это таким тоном, что у всякого другого пропало бы желание вести дальнейший разговор (ведь надо же было как-то успокоить Зину!), но Шура как ни в чем не бывало продолжала:
– О, и лис у нас развелось! Красные, как собачонки, бегают. Ко мне повадились – два гуся унесли…
– Так будешь смотреть – и последнего унесут, – вдруг вставила свое слово Зина.
– А что мне делать с этими гусями, Зиночка? На веревочке водить? Я и так каждый день пуляю…
Я с нескрываемым любопытством смотрел на Шуру.
И как я раньше не обратил внимание на эти большие, простодушные, по-летнему ласковые глаза? Пышные с рыжеватым отливом волосы хорошо промыты, и на них все еще отсвечивает дождевая пыль… Странно, меня не раздражала даже дешевенькая красная ленточка, кокетливо проглядывавшая в волосах, – единственное украшение, которое было на ней.
Я сразу повеселел.
– Ну и как? Много вы «напуляли»? – Мне очень понравилось это слово!
– Лис-то? Ни одной! – Шура беззаботно тряхнула головой. – Сережка утром с улицы прибежит: «Мама, опять лиса подбирается». Где, какая лиса? Страсть ведь интересно, как она по земле-то ползет. Ну а лиса, наверно, не любит, когда на нее полыми глазами смотрят. Хвостом махнет – только и видали. Я уж потом, когда она за угорышек скроется, выстрелю. У вас не богато порохом? – запросто обратилась ко мне Шура. – У меня один патрон остался.
– Это она чернобурку завести хочет, – опять подала голос Зина.
– Почто, Зиночка, чернобурку? На нашем телятнике и без чернобурки утонешь.
– Не утонешь. По субботам-то не много бываешь на телятнике.
Шура медленно покачала головой:
– Ох, Зиночка, Зиночка… Ты всегда вот так обо мне. По субботам-то я… – И вдруг охнула, схватилась руками за голову и громко разрыдалась.
– Ну еще, – фыркнула Зина, – то песни, то слезы. Нам одно что-нибудь.
Лицо Аркадия стало белым как полотно. Наверно, с минуту не дыша, он смотрел на Зину, потом устало махнул рукой:
– Дура. По субботам-то она знаешь какие песни поет? На могиле у мужа… Еду я сегодня с дровами…
Шура резко подняла голову:
– Не надо, не надо…
Под порогом спросонья заворочалась собака, щелкнула зубами, видно роясь в своей шубе, и затихла.
– Вот ведь я какая, – с виноватым видом сказала Шура. – Нагнала на всех тоску.
Губы у нее все еще подергивались, но мокрые глаза уже лучились.
– Ладно, давайте лучше про охоту. У меня Сережка страсть любит, когда про зверей рассказывают. Охотником, наверно, будет.
– Шурочка! Вот за это люблю… – воскликнул, загораясь, Аркадий. – Терпеть не могу плаксивых! Хочешь, я тебе дам пороху? – предложил он и с каким-то восторженным выжиданием уставился на Шуру.
Два Ивана тоже расщедрились:
– Порох и у нас имеется. Можем!
Затем все трое наперебой начали давать Шуре советы, как лучше изловить коварную лису. Потом советы сменились охотничьими историями, и тут неожиданно выяснилось, что каждый из них охотник, да и притом не последний охотник. Впрочем, пока они расправлялись с зайцами, лисами, енотами и другой подобной мелочью, можно было еще слушать, но когда они переключились на медведей…
Зина, не расставаясь с вязаньем, откровенно зевала, я тоже заметно скучал – слишком уж смело обращались охотники с хозяином леса. Зато Шура слушала с величайшим удовольствием. Ее большие доверчивые глаза были широко раскрыты. Она переводила их с одного рассказчика на другого, иногда по-детски простодушно вскрикивала: «Ох!», «Правда?» – и Аркадий, и два Ивана, поощряемые ее вниманием, забирали все выше и выше. Было даже неловко, что Аркадий совсем забыл о своей невесте и сидел, повернувшись к ней спиной.
Не знаю, как долго продолжалась бы эта потеха, если бы Зина трезво не заметила:
– Вы хоть бы врали, да поменьше дымили. А то сидим, как в овине…
…Бутылка «Столичной» давно уже была допита. Да и что такое пол-литра на четырех мужиков?
Кто-то (кажется, Аркадий) неуверенно предложил:
– Зинаида, ты теперь раскошеливайся.
– Вот еще! Вы хоть ведро выхлещете!
– Зиночка, я на минутку. Стирального порошка у тебя нету? Я со стиркой разобралась.
Зина подозрительно покосилась на гостью.
Я ради приличия пригласил ее к столу.
– Не знаю, разве что за компанию, – неуверенно сказала она и бросила выжидательный взгляд на хозяйку.
В руках у Зины с треском заходили вязальные спицы.
– Давай, давай – подождет твоя стирка, – сказал Аркадий.
– А и правда, успею. Ночь-то длинная.
Шура живехонько скинула резиновые сапоги, сняла косынку, пальто. В коротеньком бордовом платьице (Зина, пожалуй, была права насчет ее гардероба), в простых нитяных чулках в резинку, вероятно приобретенных в детском отделе, она показалась мне еще невзрачнее, а когда села за стол напротив величественной, полногрудой Зины, то и вовсе потерялась.
Мне так и не пришлось произнести тост.
Два Ивана стремительно, точно боясь, что может возникнуть еще какая-нибудь заминка, чокнулись. Вслед за ними выпили и остальные, за исключением Зины, которая только пригубила. Потом так же поспешно выпили по другой: всех, по-видимому, угнетало угрюмое молчание хозяйки.
Аркадий раза два наклонялся к ней, что-то шептал на ухо, но складка над переносьем у Зины даже не дрогнула. Тогда Аркадий, тряхнув светлым чубом, решительно схватил Зинину рюмку и опрокинул себе в рот.
Все было рассмеялись, но, встретившись с помрачневшим взглядом хозяйки, опять примолкли.
Шура первой нарушила молчание, обращаясь ко мне:
– Вы, наверно, к нам на охоту?
– Да, на охоту.
Я сказал это таким тоном, что у всякого другого пропало бы желание вести дальнейший разговор (ведь надо же было как-то успокоить Зину!), но Шура как ни в чем не бывало продолжала:
– О, и лис у нас развелось! Красные, как собачонки, бегают. Ко мне повадились – два гуся унесли…
– Так будешь смотреть – и последнего унесут, – вдруг вставила свое слово Зина.
– А что мне делать с этими гусями, Зиночка? На веревочке водить? Я и так каждый день пуляю…
Я с нескрываемым любопытством смотрел на Шуру.
И как я раньше не обратил внимание на эти большие, простодушные, по-летнему ласковые глаза? Пышные с рыжеватым отливом волосы хорошо промыты, и на них все еще отсвечивает дождевая пыль… Странно, меня не раздражала даже дешевенькая красная ленточка, кокетливо проглядывавшая в волосах, – единственное украшение, которое было на ней.
Я сразу повеселел.
– Ну и как? Много вы «напуляли»? – Мне очень понравилось это слово!
– Лис-то? Ни одной! – Шура беззаботно тряхнула головой. – Сережка утром с улицы прибежит: «Мама, опять лиса подбирается». Где, какая лиса? Страсть ведь интересно, как она по земле-то ползет. Ну а лиса, наверно, не любит, когда на нее полыми глазами смотрят. Хвостом махнет – только и видали. Я уж потом, когда она за угорышек скроется, выстрелю. У вас не богато порохом? – запросто обратилась ко мне Шура. – У меня один патрон остался.
– Это она чернобурку завести хочет, – опять подала голос Зина.
– Почто, Зиночка, чернобурку? На нашем телятнике и без чернобурки утонешь.
– Не утонешь. По субботам-то не много бываешь на телятнике.
Шура медленно покачала головой:
– Ох, Зиночка, Зиночка… Ты всегда вот так обо мне. По субботам-то я… – И вдруг охнула, схватилась руками за голову и громко разрыдалась.
– Ну еще, – фыркнула Зина, – то песни, то слезы. Нам одно что-нибудь.
Лицо Аркадия стало белым как полотно. Наверно, с минуту не дыша, он смотрел на Зину, потом устало махнул рукой:
– Дура. По субботам-то она знаешь какие песни поет? На могиле у мужа… Еду я сегодня с дровами…
Шура резко подняла голову:
– Не надо, не надо…
Под порогом спросонья заворочалась собака, щелкнула зубами, видно роясь в своей шубе, и затихла.
– Вот ведь я какая, – с виноватым видом сказала Шура. – Нагнала на всех тоску.
Губы у нее все еще подергивались, но мокрые глаза уже лучились.
– Ладно, давайте лучше про охоту. У меня Сережка страсть любит, когда про зверей рассказывают. Охотником, наверно, будет.
– Шурочка! Вот за это люблю… – воскликнул, загораясь, Аркадий. – Терпеть не могу плаксивых! Хочешь, я тебе дам пороху? – предложил он и с каким-то восторженным выжиданием уставился на Шуру.
Два Ивана тоже расщедрились:
– Порох и у нас имеется. Можем!
Затем все трое наперебой начали давать Шуре советы, как лучше изловить коварную лису. Потом советы сменились охотничьими историями, и тут неожиданно выяснилось, что каждый из них охотник, да и притом не последний охотник. Впрочем, пока они расправлялись с зайцами, лисами, енотами и другой подобной мелочью, можно было еще слушать, но когда они переключились на медведей…
Зина, не расставаясь с вязаньем, откровенно зевала, я тоже заметно скучал – слишком уж смело обращались охотники с хозяином леса. Зато Шура слушала с величайшим удовольствием. Ее большие доверчивые глаза были широко раскрыты. Она переводила их с одного рассказчика на другого, иногда по-детски простодушно вскрикивала: «Ох!», «Правда?» – и Аркадий, и два Ивана, поощряемые ее вниманием, забирали все выше и выше. Было даже неловко, что Аркадий совсем забыл о своей невесте и сидел, повернувшись к ней спиной.
Не знаю, как долго продолжалась бы эта потеха, если бы Зина трезво не заметила:
– Вы хоть бы врали, да поменьше дымили. А то сидим, как в овине…
…Бутылка «Столичной» давно уже была допита. Да и что такое пол-литра на четырех мужиков?
Кто-то (кажется, Аркадий) неуверенно предложил:
– Зинаида, ты теперь раскошеливайся.
– Вот еще! Вы хоть ведро выхлещете!