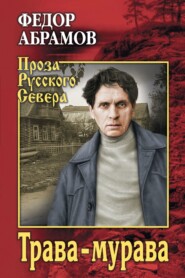По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Братья и сестры. Тетралогия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тут нота напечатана… О зверствах фашистских захватчиков на оккупированной территории. «В белорусской деревне Холмы, Могилевской области, – начал читать Лукашин, – гитлеровцы схватили шесть девушек в возрасте пятнадцати-семнадцати лет, изнасиловали их, вывернули руки, выкололи глаза и убили. Одну молодую девушку – колхозницу Аксенову – привязали за ноги к верхушкам деревьев и разорвали…»
Анфиса обхватила вздрагивающую Настю, прижала к себе.
И снова и снова – пытки, ужасы, казни…
– «Героически погибла группа женщин и детей жителей деревни Речица, Смоленской области…»
Голос Лукашина оборвался. Лицо его побледнело пот выступил на лбу.
– Я сам со Смоленщины… Семья там…
Он пересилил себя и твердым голосом прочитал:
– «Героически погибла группа женщин и детей жителей деревни Речица, Смоленской области, которых немцы, предприняв первого февраля тысяча девятьсот сорок второго года контратаку на деревню Будские Выселки, погнали впереди своих наступающих подразделений. Когда измученные женщины и дети приблизились к советским позициям, они смело крикнули красноармейцам: „Стреляйте, позади нас немцы!“» – Лукашин стиснул в кулаке газету. – А у нас по старинке. Работаем как бог на душу положит! Даже дневных заданий нету… Стыд!..
Анфиса низко опустила голову.
Не все, ох не все было справедливо в словах Лукашина. Но разве перед лицом тех неслыханных мук и страданий, которые выпали на долю их сестер и братьев, мог кто-нибудь из них сказать, что он делает все, что может?
– Я предлагаю вот что, – спокойно закончил Лукашин. – Сегодня же установить твердое дневное задание каждому. И чтобы не уходить с поля, пока это задание не выполнено. Иначе – сев до Петрова дня. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, товарищ Гаврилина, – обратился он к Насте, – вашей бригаде надо включиться в соревнование. Ну, скажем, с бригадой Ставрова.
– Я не знаю… – неуверенно сказала Настя. – Наша бригада слабая…
Трофим резко повернул к ней голову:
– Это кто сказал «слабая»? Супротив Степана слабая?
Дарья молча поднялась, натянула рукавицы и, срезая дорогу, прямо по полю зашагала к своей лошади.
После того как они остались вдвоем, Анфиса робко сказала:
– Может, мне лучше уйти с председателей…
Лукашин ничего не ответил. Он сидел, жалко сгорбившись, в замызганной, топорщившейся на спине шинели, и, судя по неподвижному взгляду прищуренных, опухших от бессонницы глаз, мысли его были сейчас далеко-далеко… Она смотрела сбоку на его худое, небритое лицо, на обветренные, потрескавшиеся губы, на грязную, перекрученную веревкой повязку, с которой безжизненно свисала маленькая кисть раненой руки, и вдруг безотчетная бабья жалость шевельнулась в ее груди.
Глава одиннадцатая
Смех и горе! Он да Троха – два старых дурака соревноваться будут. Нет, не такое сейчас время, да и стар он, вперегонки играть. Работы и так – робить не переробить. Но, взглянув на Настю, Степан Андреянович заколебался. Она так доверчиво и умоляюще смотрела ему в глаза, что у него не хватило сил обидеть ее. Ему и всегда-то нравилась эта ласковая, обходительная девушка, которая при встрече не по-здешнему говорит «вы», а теперь, когда он заглянул ей в глаза, что-то очень знакомое, родное почудилось ему в их открытом, доверчивом взгляде.
– Ладно, скажу людям, – уклончиво сказал Степан Андреянович.
Настя ушла обиженная, не попрощавшись.
«Мутят голову девке, – вскипел Степан Андреянович, – в самый раз теперь шум разводить».
Но назавтра он выехал в поле на час раньше обычного, а днем даже не поехал на обед. Вечером после работы у него ломило поясницу, подкашивались ноги. И все-таки от конюшни он пошел не домой, а в правление. Надо было и с председателем потолковать, да и просто так хотелось послушать, что деется на свете.
Сюда, никем не званные, поздно вечером, перед тем как забыться в коротком, тяжелом сне, собирались люди. И почти каждый вечер из неведомых далей доносился живой голос какого-нибудь земляка: с Ледовитого океана, из-под стен Ленинграда, с южных степей Украины – отовсюду, куда забросила война пекашинцев, приходили долгожданные, свернутые незамысловатым, обтрепавшимся в долгих дорогах треугольничком, родные письма.
Какой-нибудь молчаливый Кузьма за всю свою жизнь не сумел сказать надоедливой женке и двух ласковых слов. А почитай его письма с фронта! И лапушка, и любушка, и кровинушка моя, – наговорил такого, чего и сам никогда не подозревал в своем сердце…
И вот исстрадавшаяся Анисья получит письмо, расплачется от радости, перечитает его раз десять сряду – и про себя, и для свекрови, и для детишек, так что заучит каждое слово, еще прочитает, перескажет столько же раз соседям, а потом наконец выберет время – засядет отвечать.
Хочется много-много высказать, чем переполнено сердце: и о том, как она истосковалась по своему Кузе, и как часто видит его во сне, и о том, какими большими стали Сенька да Полюшка, которая родилась без него, и о том, как она – чего греха таить – каждый вечер, ложась спать, вспоминает его в молитвах…
Но ничего-то этого не попадет на бумагу. Где же ей, полуграмотной бабе, измученной непосильной работой, пересказать себя? Из-под огрубевшей, непослушной руки, с трудом удерживающей карандаш, выходят одни корявые строки с вечными, запомнившимися с детства поклонами от матушки, жены и детушек, от всей родни и знакомых. Но как много скажут эти поклоны Кузьме!
Домашними запахами, родимыми голосами повеет с листка. Перед глазами встанет далекая немудреная отцовская изба. Вечер. На столе чуть-чуть мигает коптилка, а то и просто трещит лучина, – где же взять керосин во время войны?.. Анисья только что подоила корову и, сев за стол на лавку, руками, еще пахнущими молоком и сеном, вырывает листок бумаги из толстой тетради, купленной года за два до войны для разных хозяйственных записей. Седая старенькая мать сидит на стуле, напротив жены, – слезы катятся по ее морщинистому лицу, и, должно быть, та же тоскливая дума, что и при прощании, грызет ее сердце. Суждено ли ей дождаться своего разъединственного кормильца? Возле матери пристроился пятилетний баловень Сенька. Рыжая лохматая головенка лежит на столе, глаза, серьезные и немигающие («письмо папке пишем»), следят за рукой матери… А где Полюшка, которую он ни разу не видел? Спит в зыбке или на руках у бабушки? В одной строке какая-то буква оборвалась вдруг резкой чертой. Да ведь это Полюшка помогала матери…
Солдат перевернул листок и на другой стороне увидел замысловатые ломаные линии, выведенные на всю страницу прямо по писаному. Он вгляделся и понял: это малюсенькая Полюшкина ручка срисована в натуральную величину.
В конце письма буквы совсем расплылись. Видно, Анисья здесь не выдержала и дала волю слезам…
Горючей тоской оденется его сердце. А потом встанет, выпрямится этот тихий и смирный Кузьма, и уже ничто не остановит его, страшного и неукротимого в своей ярости.
В тот вечер Степан Андреянович, подходя к правлению, еще издали увидел у крыльца толпу женщин и ребят, сгрудившихся возле большой доски, наполовину красной, наполовину черной. Настя Гаврилина, стоя на табуретке, что-то мелом заносила на нее. Степан Андреянович медленно прочитал:
Стахановской работой поможем нашим сыновьям, мужьям и братьям, сражающимся на фронте!
– Сколько, Степан Андреянович? – обернулась Настя.
– Соток пятьдесят с лишком.
– Э, недотянули! – сочувственно улыбнулась Настя. – Марфа Репишная всех перекрыла. Знаете сколько? – Глаза Насти широко и удивленно раскрылись, словно она сама не верила тому, что должна была сказать. – Семьдесят соток.
– Вот уж нашли чему дивиться! – ухмыльнулась Варвара, которая, бог знает когда, уже успела переодеться и в белоснежном платке выглядела франтихой, пришедшей на гулянье. – Да разве за нашей Марфой кто угонится? – Варвара особо подчеркнула «за нашей» и посмотрела на всех так, будто в успехе Марфы есть и ее немалая заслуга. – Наша Марфа ведь как пашет? Полдня на лошади да полдня на себе! Ей-богу, бабоньки, – с пресерьезным видом заметила она. – Мы обедать, а наша Марфа лошадь распряжет да сама в хомут. – И Варвара первая залилась легким, бездумным смехом.
С этого дня началась такая горячка, какой давно уже не знало Пекашино.
Восемнадцатого мая Степан Андреянович вспахал 0,80 га. Марфа Репишная – 0,85 га. Но больше всех в тот день дала Дарья – 0,89 га!
На другой день, однако, и эта цифра оказалась битой. Трофим Лобанов, к всеобщему удивлению, поднял 0,92 га.
Поздно вечером, совершенно ошалев от радости, он с важностью расхаживал перед женками, столпившимися у доски соревнования, и, высоко задирая бороду, кричал:
– Нет, брат, шалишь! С Трохой не тягайся. Жидковат супротив меня Степка, жидковат!
В довершение ко всему, ему показалось, что фамилия его недостаточно выделена среди других, и он заставил Настю переписывать ее самыми крупными буквами.
– Раз лучший пахарь, – потрясал он кулаком, – надо, чтобы за версту видно было Лобанова.
Но Трофим торжествовал недолго. На следующий день Софрон Мудрый поднял 0,95 га, а еще через день Степан Андреянович дал 1,1 га – неслыханную в Пекашине цифру.
Новость эту сообщила Трофиму Настя у конюшни, когда тот, вернувшись с поля, распрягал коня. Она сразила его наповал. Он с минуту стоял, выпучив на бригадира свои немигающие, ставшие еще более круглыми глазища, силился что-то сказать, да так и не сказав ни слова, кинулся на поле к Степану Андреяновичу. Туда он прибежал весь мокрый и прямо-таки несчастный.
– Ты… того… правду, Степа, а? – стал он допытываться у своего соперника, робко и в то же время подозрительно заглядывая ему снизу в глаза. – Вчерашнего, случаем, не прибавил?..
Не поверив на слово, он сам обежал участок, потом, задыхаясь и проваливаясь по колено в рыхлую пашню, бродил по полю, запускал руку в землю, выискивая огрехи и изъяны, – не нашел. По дороге, однако, Трофим мало-помалу успокоился, и, когда они в сумерках подошли к правлению и Степана Андреяновича все стали поздравлять, он покрыл всех своим басом:
Анфиса обхватила вздрагивающую Настю, прижала к себе.
И снова и снова – пытки, ужасы, казни…
– «Героически погибла группа женщин и детей жителей деревни Речица, Смоленской области…»
Голос Лукашина оборвался. Лицо его побледнело пот выступил на лбу.
– Я сам со Смоленщины… Семья там…
Он пересилил себя и твердым голосом прочитал:
– «Героически погибла группа женщин и детей жителей деревни Речица, Смоленской области, которых немцы, предприняв первого февраля тысяча девятьсот сорок второго года контратаку на деревню Будские Выселки, погнали впереди своих наступающих подразделений. Когда измученные женщины и дети приблизились к советским позициям, они смело крикнули красноармейцам: „Стреляйте, позади нас немцы!“» – Лукашин стиснул в кулаке газету. – А у нас по старинке. Работаем как бог на душу положит! Даже дневных заданий нету… Стыд!..
Анфиса низко опустила голову.
Не все, ох не все было справедливо в словах Лукашина. Но разве перед лицом тех неслыханных мук и страданий, которые выпали на долю их сестер и братьев, мог кто-нибудь из них сказать, что он делает все, что может?
– Я предлагаю вот что, – спокойно закончил Лукашин. – Сегодня же установить твердое дневное задание каждому. И чтобы не уходить с поля, пока это задание не выполнено. Иначе – сев до Петрова дня. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, товарищ Гаврилина, – обратился он к Насте, – вашей бригаде надо включиться в соревнование. Ну, скажем, с бригадой Ставрова.
– Я не знаю… – неуверенно сказала Настя. – Наша бригада слабая…
Трофим резко повернул к ней голову:
– Это кто сказал «слабая»? Супротив Степана слабая?
Дарья молча поднялась, натянула рукавицы и, срезая дорогу, прямо по полю зашагала к своей лошади.
После того как они остались вдвоем, Анфиса робко сказала:
– Может, мне лучше уйти с председателей…
Лукашин ничего не ответил. Он сидел, жалко сгорбившись, в замызганной, топорщившейся на спине шинели, и, судя по неподвижному взгляду прищуренных, опухших от бессонницы глаз, мысли его были сейчас далеко-далеко… Она смотрела сбоку на его худое, небритое лицо, на обветренные, потрескавшиеся губы, на грязную, перекрученную веревкой повязку, с которой безжизненно свисала маленькая кисть раненой руки, и вдруг безотчетная бабья жалость шевельнулась в ее груди.
Глава одиннадцатая
Смех и горе! Он да Троха – два старых дурака соревноваться будут. Нет, не такое сейчас время, да и стар он, вперегонки играть. Работы и так – робить не переробить. Но, взглянув на Настю, Степан Андреянович заколебался. Она так доверчиво и умоляюще смотрела ему в глаза, что у него не хватило сил обидеть ее. Ему и всегда-то нравилась эта ласковая, обходительная девушка, которая при встрече не по-здешнему говорит «вы», а теперь, когда он заглянул ей в глаза, что-то очень знакомое, родное почудилось ему в их открытом, доверчивом взгляде.
– Ладно, скажу людям, – уклончиво сказал Степан Андреянович.
Настя ушла обиженная, не попрощавшись.
«Мутят голову девке, – вскипел Степан Андреянович, – в самый раз теперь шум разводить».
Но назавтра он выехал в поле на час раньше обычного, а днем даже не поехал на обед. Вечером после работы у него ломило поясницу, подкашивались ноги. И все-таки от конюшни он пошел не домой, а в правление. Надо было и с председателем потолковать, да и просто так хотелось послушать, что деется на свете.
Сюда, никем не званные, поздно вечером, перед тем как забыться в коротком, тяжелом сне, собирались люди. И почти каждый вечер из неведомых далей доносился живой голос какого-нибудь земляка: с Ледовитого океана, из-под стен Ленинграда, с южных степей Украины – отовсюду, куда забросила война пекашинцев, приходили долгожданные, свернутые незамысловатым, обтрепавшимся в долгих дорогах треугольничком, родные письма.
Какой-нибудь молчаливый Кузьма за всю свою жизнь не сумел сказать надоедливой женке и двух ласковых слов. А почитай его письма с фронта! И лапушка, и любушка, и кровинушка моя, – наговорил такого, чего и сам никогда не подозревал в своем сердце…
И вот исстрадавшаяся Анисья получит письмо, расплачется от радости, перечитает его раз десять сряду – и про себя, и для свекрови, и для детишек, так что заучит каждое слово, еще прочитает, перескажет столько же раз соседям, а потом наконец выберет время – засядет отвечать.
Хочется много-много высказать, чем переполнено сердце: и о том, как она истосковалась по своему Кузе, и как часто видит его во сне, и о том, какими большими стали Сенька да Полюшка, которая родилась без него, и о том, как она – чего греха таить – каждый вечер, ложась спать, вспоминает его в молитвах…
Но ничего-то этого не попадет на бумагу. Где же ей, полуграмотной бабе, измученной непосильной работой, пересказать себя? Из-под огрубевшей, непослушной руки, с трудом удерживающей карандаш, выходят одни корявые строки с вечными, запомнившимися с детства поклонами от матушки, жены и детушек, от всей родни и знакомых. Но как много скажут эти поклоны Кузьме!
Домашними запахами, родимыми голосами повеет с листка. Перед глазами встанет далекая немудреная отцовская изба. Вечер. На столе чуть-чуть мигает коптилка, а то и просто трещит лучина, – где же взять керосин во время войны?.. Анисья только что подоила корову и, сев за стол на лавку, руками, еще пахнущими молоком и сеном, вырывает листок бумаги из толстой тетради, купленной года за два до войны для разных хозяйственных записей. Седая старенькая мать сидит на стуле, напротив жены, – слезы катятся по ее морщинистому лицу, и, должно быть, та же тоскливая дума, что и при прощании, грызет ее сердце. Суждено ли ей дождаться своего разъединственного кормильца? Возле матери пристроился пятилетний баловень Сенька. Рыжая лохматая головенка лежит на столе, глаза, серьезные и немигающие («письмо папке пишем»), следят за рукой матери… А где Полюшка, которую он ни разу не видел? Спит в зыбке или на руках у бабушки? В одной строке какая-то буква оборвалась вдруг резкой чертой. Да ведь это Полюшка помогала матери…
Солдат перевернул листок и на другой стороне увидел замысловатые ломаные линии, выведенные на всю страницу прямо по писаному. Он вгляделся и понял: это малюсенькая Полюшкина ручка срисована в натуральную величину.
В конце письма буквы совсем расплылись. Видно, Анисья здесь не выдержала и дала волю слезам…
Горючей тоской оденется его сердце. А потом встанет, выпрямится этот тихий и смирный Кузьма, и уже ничто не остановит его, страшного и неукротимого в своей ярости.
В тот вечер Степан Андреянович, подходя к правлению, еще издали увидел у крыльца толпу женщин и ребят, сгрудившихся возле большой доски, наполовину красной, наполовину черной. Настя Гаврилина, стоя на табуретке, что-то мелом заносила на нее. Степан Андреянович медленно прочитал:
Стахановской работой поможем нашим сыновьям, мужьям и братьям, сражающимся на фронте!
– Сколько, Степан Андреянович? – обернулась Настя.
– Соток пятьдесят с лишком.
– Э, недотянули! – сочувственно улыбнулась Настя. – Марфа Репишная всех перекрыла. Знаете сколько? – Глаза Насти широко и удивленно раскрылись, словно она сама не верила тому, что должна была сказать. – Семьдесят соток.
– Вот уж нашли чему дивиться! – ухмыльнулась Варвара, которая, бог знает когда, уже успела переодеться и в белоснежном платке выглядела франтихой, пришедшей на гулянье. – Да разве за нашей Марфой кто угонится? – Варвара особо подчеркнула «за нашей» и посмотрела на всех так, будто в успехе Марфы есть и ее немалая заслуга. – Наша Марфа ведь как пашет? Полдня на лошади да полдня на себе! Ей-богу, бабоньки, – с пресерьезным видом заметила она. – Мы обедать, а наша Марфа лошадь распряжет да сама в хомут. – И Варвара первая залилась легким, бездумным смехом.
С этого дня началась такая горячка, какой давно уже не знало Пекашино.
Восемнадцатого мая Степан Андреянович вспахал 0,80 га. Марфа Репишная – 0,85 га. Но больше всех в тот день дала Дарья – 0,89 га!
На другой день, однако, и эта цифра оказалась битой. Трофим Лобанов, к всеобщему удивлению, поднял 0,92 га.
Поздно вечером, совершенно ошалев от радости, он с важностью расхаживал перед женками, столпившимися у доски соревнования, и, высоко задирая бороду, кричал:
– Нет, брат, шалишь! С Трохой не тягайся. Жидковат супротив меня Степка, жидковат!
В довершение ко всему, ему показалось, что фамилия его недостаточно выделена среди других, и он заставил Настю переписывать ее самыми крупными буквами.
– Раз лучший пахарь, – потрясал он кулаком, – надо, чтобы за версту видно было Лобанова.
Но Трофим торжествовал недолго. На следующий день Софрон Мудрый поднял 0,95 га, а еще через день Степан Андреянович дал 1,1 га – неслыханную в Пекашине цифру.
Новость эту сообщила Трофиму Настя у конюшни, когда тот, вернувшись с поля, распрягал коня. Она сразила его наповал. Он с минуту стоял, выпучив на бригадира свои немигающие, ставшие еще более круглыми глазища, силился что-то сказать, да так и не сказав ни слова, кинулся на поле к Степану Андреяновичу. Туда он прибежал весь мокрый и прямо-таки несчастный.
– Ты… того… правду, Степа, а? – стал он допытываться у своего соперника, робко и в то же время подозрительно заглядывая ему снизу в глаза. – Вчерашнего, случаем, не прибавил?..
Не поверив на слово, он сам обежал участок, потом, задыхаясь и проваливаясь по колено в рыхлую пашню, бродил по полю, запускал руку в землю, выискивая огрехи и изъяны, – не нашел. По дороге, однако, Трофим мало-помалу успокоился, и, когда они в сумерках подошли к правлению и Степана Андреяновича все стали поздравлять, он покрыл всех своим басом: