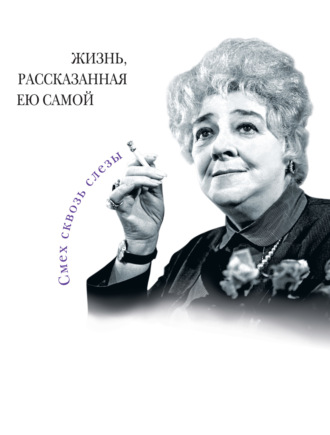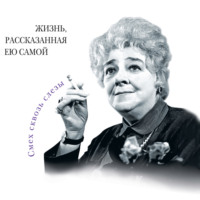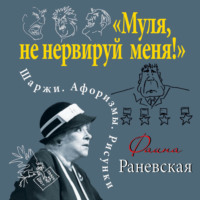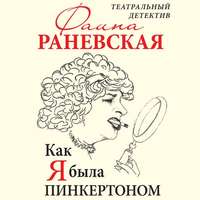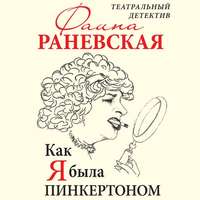Фаина Раневская. Жизнь, рассказанная ею самой
Скачать книгу в форматах
Краткое содержание
Ранние годы и начало пути
Фаина Раневская, урождённая Фанни Фельдман, появилась на свет в 1896 году в зажиточной еврейской семье из Таганрога. Её отец, Гирш Фельдман, владел фабрикой красок и пользовался уважением в городе, мать, Милка Заговайлова, происходила из интеллигентной семьи. Детство будущей актрисы было наполнено противоречиями: роскошный особняк с библиотекой и фортепиано соседствовал с эмоциональной холодностью родителей, особенно матери, которая открыто предпочитала старших детей. Фаина компенсировала одиночество погружением в книги, театр и мечтами о сцене, которые семья считала блажью. В 1915 году, вопреки воле отца, она уехала в Москву, где безуспешно пыталась поступить в театральные школы. Её спасала лишь упрямая вера в собственное предназначение и случайные уроки у актрисы МХАТ Елены Муратовой, разглядевшей в девушке искру таланта.
Первые шаги в профессии
Скитания по провинциальным театрам стали для Раневской суровой школой. В Малаховском летнем театре под Москвой она дебютировала в эпизодической роли без слов, но даже это превратила в мини-шедевр, умудрившись рассмешить публику падением на сцене. Затем последовали годы в Керчи, Ростове-на-Дону, Баку, где она играла в полулюбительских труппах, часто голодала, но оттачивала мастерство. Переломным стал 1917 год: в Архангельске она встретила Павлу Леонтьевну Вульф — актрису и педагога, ставшую её духовной матерью, наставницей и единственным близким человеком. Вульф научила Раневскую превращать недостатки — резкий голос, неклассическую внешность — в инструменты выразительности, открыла ей силу гротеска и иронии.
Расцвет карьеры и творческие метания
1920-1930-е годы стали временем поисков. Раневская блистала в спектаклях Камерного театра у Таирова, где её роли в «Жирофле-Жирофля» и «Патетической сонате» раскрыли трагикомический дар. Однако внутренние конфликты с режиссёрами, нежелание подчиняться диктату «системы», приводят к уходу. Её приглашает Мейерхольд, но после двух репетиций следует скандал: Раневская отказывается от роли, заявив, что «не может быть марионеткой в руках даже гения». Этот эпизод станет кредо её жизни — абсолютная творческая свобода ценой карьеры. В кино она врывается неожиданно: роль жены инспектора в «Пышке» Михаила Ромма (1934) создаёт образ женщины-хамелеона, одновременно отталкивающей и гипнотической. За этим последуют «Подкидыш», где её фраза «Муля, не нервируй меня!» войдёт в народный фольклор, и «Весна» с Любовью Орловой, где Раневская, играя надменную Маргариту Львовну, доводит до абсурда штампы буржуазных мелодрам.
Война и внутренняя эмиграция
Великая Отечественная застаёт Раневскую в Москве. Она отказывается эвакуироваться с Театром драмы, где тогда служила, и остаётся играть во фронтовых бригадах. Её монологи перед ранеными в госпиталях — смесь чёрного юмора и щемящей лирики — становятся легендой. В 1943 году, после смерти Павлы Вульф от голода в блокадном Ленинграде, Раневская погружается в депрессию. Спасает работа: роль мачехи в «Золушке» (1947) превращает её в символ ядовитого остроумия. Каждая реплика («Ну что за гадкий тон! Не я ли тебя одеваю? Не я ли тебя кормлю?») становится афоризмом, но сама актриса ненавидит фильм, называя его «клоунадой для толпы».
Театральные битвы и одиночество
Послевоенные годы приносят Раневской официальное признание (Сталинская премия за роль в спектакле «Рассвет над Москвой»), но усиливают конфликт с системой. Она уходит из Театра им. Моссовета после ссоры с режиссёром Завадским, который потребовал «убрать шаржированность» из роли Леди Макбет. «Я не умею играть благородных идиоток», — заявляет она на прощальной записке. Переход в Театр им. Пушкина оборачивается новым скандалом: Раневская отказывается выходить на сцену, если в зале присутствует Хрущёв, назвав его «кукурузным палачом». Её спасает лишь всенародная любовь — власти не решаются арестовать «народную Фаину».
Маска и человек
За маской циничной острословки, созданной для защиты, скрывалась ранимая натура. Раневская никогда не имела семьи, считая брак «тюрьмой для женщин с мозгом». Её главной любовью оставался театр, хотя в переписке с Цветаевой она признавалась в романе с поэтом-эмигрантом, оборвавшемся из-за его гибели в Гражданскую войну. С возрастом одиночество становилось невыносимым: она заводила собак, разговаривала с портретом Павлы Вульф, а деньги от гонораров раздавала соседям. Её квартира напоминала музей — книги с пометками на полях, фотографии с Чеховым и Ахматовой, коллекция абсурдных сувениров вроде чучела вороны в шляпе.
Закат и бессмертие легенды
В 1960-1980-е Раневская превращается в живую икону. Она играет всего несколько ролей («Дальше — тишина» Виктюка), но каждая её реплика со скоростью анекдота разлетается по стране. Власть пытается приручить её орденом Ленина, но актриса демонстративно теряет награду, заявив: «Они должны вешать мне медали на грудь, а я её давно положила на алтарь искусства». Её ёмкие афоризмы («Одиночество — это когда в доме есть телефон, а звонит будильник») становятся кодом для интеллигенции, скрывающим боль поколения. Умирает Раневская в 1984 году, оставив записку: «Ухожу, потому что надоело. А надоело, потому что ухожу». Даже в смерти она осталась режиссёром собственной судьбы, превратив жизнь в трагифарс, где смех и слёзы — две стороны одной маски.