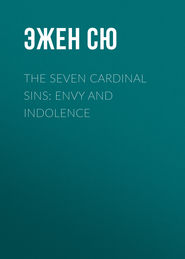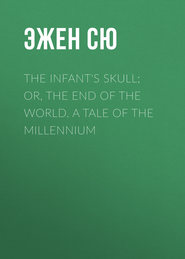По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Парижские тайны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Трудно было бы найти что-нибудь более феерическое, более достойное сказок «Тысячи и одной ночи», чем зимний сад, о котором Родольф говорил с графиней ***.
Представьте себе великолепную галерею, откуда вы попадаете на площадку сорока туазов длины и тридцати ширины, над которой навис застекленный, словно невесомый, свод, достигающий пятидесяти футов от пола. Зеркальные стены этой площадки в форме параллелограмма, в глубине которых как бы пересекаются крохотные зеленые ромбы камышовых трельяжей, напоминают благодаря игре света и тени ажурную беседку; вдоль стен выстроились апельсиновые деревья и кусты камелии, не уступающие по размерам тем, что находятся в Тюильри; первые усыпаны плодами, сверкающими, как золотые яблоки, среди глянцевитой темно-зеленой листвы, вторые пестрят пурпурными, белыми и розовыми цветами.
Но это лишь обрамление сада.
Пять или шесть куп деревьев и кустов, привезенных из Индии и тропиков, растут в глубоких впадинах, вокруг которых петляют аллеи, выложенные прелестной ракушечной мозаикой; аллеи эти достаточно широки, чтобы три-четыре человека могли гулять по ним, взявшись за руки.
Невозможно описать впечатление, которое производила в разгар зимы, и притом среди бала, эта роскошная экзотическая растительность.
Здесь огромные банановые деревья почти достигают вершины застекленного свода, смешивая свои широкие лоснящиеся листья с остроконечными листьями огромных магнолий, где уже расцветают прекрасные душистые цветы, из чашечек которых, пурпурных сверху и серебристых внутри, торчат золотые тычинки; дальше растут финиковые пальмы Леванта, красные веерники, индийские смоковницы; все эти густолиственные, мощные деревья как бы дополняют буйство окружающей их пышной яркой зелени, которая словно позаимствовала свое великолепие у изумруда, ибо ее крепкие, плотные и гладкие побеги приобретают иной раз искрометные металлические оттенки.
А каких только здесь нет вьющихся растений! Они карабкаются по трельяжам гирляндами цветов и листьев, повисают между апельсиновыми и иными деревьями, спиралью взбираются по их стволам и, образуя непроходимую чащу, поднимаются до верха застекленного свода; страстоцветы, прозванные крылатыми, кавалерники, усыпанные большими пурпурными цветами в голубых прожилках с лиловато-черным пестиком, ниспадают оттуда гигантскими каскадами, цепляясь своими тонкими усиками за стреловидные листья алоэ, точно снова хотят подняться ввысь.
Пушистый индийский жасмин с удлиненными светло-желтыми цветами переплелся с другой лианой, покрытой сочными белыми цветами, которые распространяют вокруг пряный аромат; обе они, не разжимая объятий, украшают своей зеленой бахромой с золотыми и серебряными колокольчиками листья индийской смоковницы.
Дальше взвиваются и зелеными струями падают вниз бесчисленные побеги ласточника, чьи листья и зонтичные цветы по двадцати звездочек в каждом так компактны и глянцевиты, что их можно принять за букеты из розовой эмали, окруженные маленькими зелеными листочками.
Купы деревьев и кустов окружены бордюрами трансваальского вереска, голландских тюльпанов, константинопольских нарциссов, персидских гиацинтов, цикламенов, ирисов, образующими нечто вроде естественного ковра, где соседствуют во всем своем великолепии самые разнообразные краски и оттенки.
Наполовину скрытые среди листвы китайские фонарики из прозрачного шелка, одни голубые, другие бледно-розовые, освещают зимний сад.
Невозможно описать таинственный мягкий свет, создаваемый их лучами, свет пленительный, сказочный, который напоминает голубоватую прозрачность ясной летней ночи и алые отблески северной зари.
В эту огромную теплицу ведет приподнятая над ней длинная галерея, сверкающая золотом, зеркалами, хрусталем, сияние которой обрамляет, если так можно выразиться, сумеречный сад, где неясно вырисовываются высокие деревья, видимые в ее широкие просветы, наполовину затянутые малиновым бархатом.
Заглянув в один из них, можно подумать, что перед вами расстилается среди спокойной светлой ночи экзотический пейзаж.
Если же смотреть из глубины сада, где под сенью зелени и цветов стоят огромные диваны, галерея являет собой резкий контраст с мягким полумраком оранжереи.
Глаз различает, как в окутывающей их золотистой дымке играют и переливаются, словно на ожившей картине, разнообразные красочные ткани женских платьев, как искрятся бриллианты и другие драгоценные камни.
Звуки оркестра, ослабленные расстоянием и веселым, невнятным шумом галереи, замирают в неподвижной листве высоких экзотических деревьев.
Прогуливаясь по этому саду, гости невольно понижали голос, слышался лишь звук легких шагов и шуршание атласных платьев; этот воздух, одновременно легкий, теплый и напоенный запахом множества благовонных растений, эта тихая, далекая музыка погружали вас в сладостный душевный покой.
Сидя на обитом шелком диване в укромном уголке этого Эдема, двое счастливых влюбленных, опьяненные страстью, гармонией и ароматами, не могли бы найти более волшебной рамки для своей пламенной и недавно зародившейся любви, ибо, увы, месяц или два законного спокойного счастья беспощадно превращают двух любовников в холодную супружескую чету.
Войдя в этот восхитительный зимний сад, Родольф невольно вскрикнул от удивления.
– Право, сударыня, я никогда не подумал бы, что подобное чудо возможно. Этот сад не только воплощение роскоши и вкуса, он – сама поэзия; вместо того чтобы писать поэмы или картины, как крупный мастер, вы создаете то, о чем они вряд ли осмелились бы мечтать, – сказал он графине ***.
– Вы очень любезны, ваше высочество.
– Признайтесь же, сударыня, что мастер, который сумел бы передать эту чарующую картину с ее поразительными красками и контрастами, то ласкающими глаз, то навевающими сладостный покой, признайтесь же, что такой художник или поэт создал бы замечательное произведение искусства, лишь воспроизводя то, что сотворили вы.
– Похвалы, подсказанные снисходительностью вашего высочества, тем более опасны, что они очаровывают тебя своим остроумием и ты помимо воли внимаешь им с огромным удовольствием. Но взгляните, монсеньор, на эту прелестную молодую женщину. Согласитесь, ваше высочество, что маркиза д’Арвиль хороша в любой рамке. Сколько в ней изящества! Разве она не выигрывает по сравнению с холодной красавицей, которая сопровождает ее?
Графиня Сара Мак-Грегор и маркиза д’Арвиль как раз спускались по ступеням, которые вели из галереи в зимний сад.
Глава XVII. Свидание
Лестные отзывы графини *** о г-же д’Арвиль не были преувеличены.
Не хватает слов, чтобы передать тонкую, пленительную красоту этой женщины, находившейся во цвете лет, красоту, тем более редкостную, что она заключалась не столько в правильности черт лица, сколько в невыразимой его прелести, которая как бы скромно пряталась за трогательным выражением доброты.
Мы делаем упор на слове «доброта», ибо обычно не доброта ценится в лице двадцатилетней женщины, красивой, остроумной, окруженной поклонением и любовью, как г-жа д’Арвиль, которая невольно привлекала сердца своим мягким, бесхитростным характером, не вязавшимся с успехом, которым она пользовалась в свете, отчасти, надо признаться, из-за родовитости и богатства мужа.
Попробуем пояснить эту мысль.
Натура слишком гордая, слишком одаренная, чтобы кокетством завлекать мужчин, г-жа д’Арвиль бывала так чистосердечно тронута их вниманием, словно не вполне заслуживала его; внимание это пробуждало в ней не гордость, а радость; равнодушная к похвалам, она ценила превыше всего доброе к себе отношение и прекрасно умела отличить лесть от проявления искренней приязни.
Наделенная ясным, тонким, а порой и лукавым умом, она умела беззлобно высмеять множество самодовольных людей, которые постоянно выставляют напоказ одни свою благодушную физиономию счастливых дураков, другие – надутую физиономию спесивых глупцов… «Эти люди, – шутливо говорила г-жа д’Арвиль, – проводят жизнь, как бы танцуя в одиночку перед невидимым зеркалом и сочувственно улыбаясь ему».
Зато застенчивые, сдержанные, самолюбивые люди вызывали неизменный интерес г-жи д’Арвиль.
Это краткое вступление поможет читателю понять все своеобразие красоты маркизы.
У нее безукоризненный цвет лица с нежным румянцем; длинные локоны светло-каштановых волос касаются округлых плеч, крепких и гладких, как белый мрамор. Невозможно описать ангельскую прелесть ее больших серых глаз, опушенных длинными черными ресницами. Алый рот ее так же выразителен, как и чарующий взгляд, а трогательному, задушевному разговору вторит ласковое и грустное выражение лица. Не будем говорить ни о ее безупречной фигуре, ни о редкой изысканности всего ее облика. В тот вечер на маркизе было платье из белого крепа, украшенное веточкой камелии, в чашечке которой сверкали, наподобие капель росы, полускрытые в ней бриллианты; венок таких же цветов осенял ее чистый белый лоб.
Холодная красота графини Мак-Грегор еще больше подчеркивала обаяние и женственность маркизы д’Арвиль.
В свои тридцать пять лет Сара казалась самое большее тридцатилетней. Нет ничего полезнее для тела, чем холодный эгоизм; человек долго сохраняет молодость с этим куском льда в груди.
Иные сухие, черствые души недоступны волнениям, от которых изнашивается и блекнет лицо, они ощущают лишь уколы уязвленной гордости или обманутого честолюбия – огорчения, которые не слишком влияют на здоровье тела.
Моложавость Сары лишь подтверждает наши слова.
Если не считать известной полноты, которая придавала ее фигуре, менее стройной, чем у г-жи д’Арвиль, сладострастную томность, Сара блистала свежестью молодости; мало кто мог выдержать обманчивый огонь сверкающих черных глаз графини, но влажные губы выдавали ее решительную и плотоядную натуру.
Голубоватые жилки на висках и шее проступали сквозь молочную белизну ее тонкой, словно прозрачной, кожи.
На графине Мак-Грегор было муаровое платье соломенного цвета и в тон ему шелковая туника; простой венок из вечнозеленых листьев, оттенком напоминающих бирюзу, прекрасно гармонировал с ее черными как смоль волосами, разделенными на прямой пробор. Эта строгая прическа придавала нечто античное властному и чувственному профилю этой женщины с орлиным носом.
Немало людей, введенных в заблуждение собственной внешностью, рассматривают ее как явное доказательство своего будущего призвания. Один находит у себя чрезвычайно воинственный вид, он воюет; другой – вид поэта, он слагает стихи; третий – вид конспиратора, он конспирирует; четвертый – вид политика, он политиканствует; пятый – вид проповедника, он проповедует. Сара находила, и не без основания, что у нее царственный вид, и, поверив некогда предсказаниям кормилицы, была по-прежнему убеждена в своей высокой судьбе.
Спускаясь по ступенькам лестницы в зимний сад, маркиза с Сарой увидели там Родольфа; но герцог, очевидно, не заметил их, ибо находился на повороте аллеи.
– Герцог так увлечен разговором с супругой посла, – сказала г-жа д’Арвиль, – что даже не обратил на нас внимания…
– Вы ошибаетесь, дорогая Клеманс, – возразила графиня, которая была близкой приятельницей г-жи д’Арвиль, – герцог прекрасно видел нас, но он меня боится… Его неприязнь ко мне так и не прошла.
– Я отказываюсь понимать то упорство, с которым он избегает вас; я часто журила его за столь странное поведение с таким давним другом. «Мы с графиней Сарой смертельные враги, – ответил он шутливо, – я дал обет никогда не разговаривать с ней, и, по-видимому, обет этот священный, если я отказываю себе в удовольствии беседовать с такой любезной особой». И хотя, дорогая Сара, слова герцога удивили меня, пришлось удовлетвориться ими[71 - Любовь Родольфа к Саре и последовавшие за ней события, случившиеся 17–18 лет тому назад, не стали достоянием светских сплетен: Родольф и Сара были одинаково заинтересованы в том, чтобы скрыть их.].
– Уверяю вас, что причина нашей жестокой ссоры, ссоры полушутливой, полусерьезной, самая невинная; если бы в этом деле не было замешано третье лицо, я давным-давно открыла бы вам эту великую тайну. Но что с вами, дорогое дитя? Вы чем-то озабочены?
– Пустяки… в этой галерее было так жарко, что у меня разболелась голова; давайте посидим здесь, и, надеюсь, моя головная боль пройдет…
– Вы правы, вот как раз уединенный уголок, где вы будете скрыты от глаз тех, кого опечалит ваше отсутствие… – заметила Сара, улыбаясь и делая ударение на последних словах.
Представьте себе великолепную галерею, откуда вы попадаете на площадку сорока туазов длины и тридцати ширины, над которой навис застекленный, словно невесомый, свод, достигающий пятидесяти футов от пола. Зеркальные стены этой площадки в форме параллелограмма, в глубине которых как бы пересекаются крохотные зеленые ромбы камышовых трельяжей, напоминают благодаря игре света и тени ажурную беседку; вдоль стен выстроились апельсиновые деревья и кусты камелии, не уступающие по размерам тем, что находятся в Тюильри; первые усыпаны плодами, сверкающими, как золотые яблоки, среди глянцевитой темно-зеленой листвы, вторые пестрят пурпурными, белыми и розовыми цветами.
Но это лишь обрамление сада.
Пять или шесть куп деревьев и кустов, привезенных из Индии и тропиков, растут в глубоких впадинах, вокруг которых петляют аллеи, выложенные прелестной ракушечной мозаикой; аллеи эти достаточно широки, чтобы три-четыре человека могли гулять по ним, взявшись за руки.
Невозможно описать впечатление, которое производила в разгар зимы, и притом среди бала, эта роскошная экзотическая растительность.
Здесь огромные банановые деревья почти достигают вершины застекленного свода, смешивая свои широкие лоснящиеся листья с остроконечными листьями огромных магнолий, где уже расцветают прекрасные душистые цветы, из чашечек которых, пурпурных сверху и серебристых внутри, торчат золотые тычинки; дальше растут финиковые пальмы Леванта, красные веерники, индийские смоковницы; все эти густолиственные, мощные деревья как бы дополняют буйство окружающей их пышной яркой зелени, которая словно позаимствовала свое великолепие у изумруда, ибо ее крепкие, плотные и гладкие побеги приобретают иной раз искрометные металлические оттенки.
А каких только здесь нет вьющихся растений! Они карабкаются по трельяжам гирляндами цветов и листьев, повисают между апельсиновыми и иными деревьями, спиралью взбираются по их стволам и, образуя непроходимую чащу, поднимаются до верха застекленного свода; страстоцветы, прозванные крылатыми, кавалерники, усыпанные большими пурпурными цветами в голубых прожилках с лиловато-черным пестиком, ниспадают оттуда гигантскими каскадами, цепляясь своими тонкими усиками за стреловидные листья алоэ, точно снова хотят подняться ввысь.
Пушистый индийский жасмин с удлиненными светло-желтыми цветами переплелся с другой лианой, покрытой сочными белыми цветами, которые распространяют вокруг пряный аромат; обе они, не разжимая объятий, украшают своей зеленой бахромой с золотыми и серебряными колокольчиками листья индийской смоковницы.
Дальше взвиваются и зелеными струями падают вниз бесчисленные побеги ласточника, чьи листья и зонтичные цветы по двадцати звездочек в каждом так компактны и глянцевиты, что их можно принять за букеты из розовой эмали, окруженные маленькими зелеными листочками.
Купы деревьев и кустов окружены бордюрами трансваальского вереска, голландских тюльпанов, константинопольских нарциссов, персидских гиацинтов, цикламенов, ирисов, образующими нечто вроде естественного ковра, где соседствуют во всем своем великолепии самые разнообразные краски и оттенки.
Наполовину скрытые среди листвы китайские фонарики из прозрачного шелка, одни голубые, другие бледно-розовые, освещают зимний сад.
Невозможно описать таинственный мягкий свет, создаваемый их лучами, свет пленительный, сказочный, который напоминает голубоватую прозрачность ясной летней ночи и алые отблески северной зари.
В эту огромную теплицу ведет приподнятая над ней длинная галерея, сверкающая золотом, зеркалами, хрусталем, сияние которой обрамляет, если так можно выразиться, сумеречный сад, где неясно вырисовываются высокие деревья, видимые в ее широкие просветы, наполовину затянутые малиновым бархатом.
Заглянув в один из них, можно подумать, что перед вами расстилается среди спокойной светлой ночи экзотический пейзаж.
Если же смотреть из глубины сада, где под сенью зелени и цветов стоят огромные диваны, галерея являет собой резкий контраст с мягким полумраком оранжереи.
Глаз различает, как в окутывающей их золотистой дымке играют и переливаются, словно на ожившей картине, разнообразные красочные ткани женских платьев, как искрятся бриллианты и другие драгоценные камни.
Звуки оркестра, ослабленные расстоянием и веселым, невнятным шумом галереи, замирают в неподвижной листве высоких экзотических деревьев.
Прогуливаясь по этому саду, гости невольно понижали голос, слышался лишь звук легких шагов и шуршание атласных платьев; этот воздух, одновременно легкий, теплый и напоенный запахом множества благовонных растений, эта тихая, далекая музыка погружали вас в сладостный душевный покой.
Сидя на обитом шелком диване в укромном уголке этого Эдема, двое счастливых влюбленных, опьяненные страстью, гармонией и ароматами, не могли бы найти более волшебной рамки для своей пламенной и недавно зародившейся любви, ибо, увы, месяц или два законного спокойного счастья беспощадно превращают двух любовников в холодную супружескую чету.
Войдя в этот восхитительный зимний сад, Родольф невольно вскрикнул от удивления.
– Право, сударыня, я никогда не подумал бы, что подобное чудо возможно. Этот сад не только воплощение роскоши и вкуса, он – сама поэзия; вместо того чтобы писать поэмы или картины, как крупный мастер, вы создаете то, о чем они вряд ли осмелились бы мечтать, – сказал он графине ***.
– Вы очень любезны, ваше высочество.
– Признайтесь же, сударыня, что мастер, который сумел бы передать эту чарующую картину с ее поразительными красками и контрастами, то ласкающими глаз, то навевающими сладостный покой, признайтесь же, что такой художник или поэт создал бы замечательное произведение искусства, лишь воспроизводя то, что сотворили вы.
– Похвалы, подсказанные снисходительностью вашего высочества, тем более опасны, что они очаровывают тебя своим остроумием и ты помимо воли внимаешь им с огромным удовольствием. Но взгляните, монсеньор, на эту прелестную молодую женщину. Согласитесь, ваше высочество, что маркиза д’Арвиль хороша в любой рамке. Сколько в ней изящества! Разве она не выигрывает по сравнению с холодной красавицей, которая сопровождает ее?
Графиня Сара Мак-Грегор и маркиза д’Арвиль как раз спускались по ступеням, которые вели из галереи в зимний сад.
Глава XVII. Свидание
Лестные отзывы графини *** о г-же д’Арвиль не были преувеличены.
Не хватает слов, чтобы передать тонкую, пленительную красоту этой женщины, находившейся во цвете лет, красоту, тем более редкостную, что она заключалась не столько в правильности черт лица, сколько в невыразимой его прелести, которая как бы скромно пряталась за трогательным выражением доброты.
Мы делаем упор на слове «доброта», ибо обычно не доброта ценится в лице двадцатилетней женщины, красивой, остроумной, окруженной поклонением и любовью, как г-жа д’Арвиль, которая невольно привлекала сердца своим мягким, бесхитростным характером, не вязавшимся с успехом, которым она пользовалась в свете, отчасти, надо признаться, из-за родовитости и богатства мужа.
Попробуем пояснить эту мысль.
Натура слишком гордая, слишком одаренная, чтобы кокетством завлекать мужчин, г-жа д’Арвиль бывала так чистосердечно тронута их вниманием, словно не вполне заслуживала его; внимание это пробуждало в ней не гордость, а радость; равнодушная к похвалам, она ценила превыше всего доброе к себе отношение и прекрасно умела отличить лесть от проявления искренней приязни.
Наделенная ясным, тонким, а порой и лукавым умом, она умела беззлобно высмеять множество самодовольных людей, которые постоянно выставляют напоказ одни свою благодушную физиономию счастливых дураков, другие – надутую физиономию спесивых глупцов… «Эти люди, – шутливо говорила г-жа д’Арвиль, – проводят жизнь, как бы танцуя в одиночку перед невидимым зеркалом и сочувственно улыбаясь ему».
Зато застенчивые, сдержанные, самолюбивые люди вызывали неизменный интерес г-жи д’Арвиль.
Это краткое вступление поможет читателю понять все своеобразие красоты маркизы.
У нее безукоризненный цвет лица с нежным румянцем; длинные локоны светло-каштановых волос касаются округлых плеч, крепких и гладких, как белый мрамор. Невозможно описать ангельскую прелесть ее больших серых глаз, опушенных длинными черными ресницами. Алый рот ее так же выразителен, как и чарующий взгляд, а трогательному, задушевному разговору вторит ласковое и грустное выражение лица. Не будем говорить ни о ее безупречной фигуре, ни о редкой изысканности всего ее облика. В тот вечер на маркизе было платье из белого крепа, украшенное веточкой камелии, в чашечке которой сверкали, наподобие капель росы, полускрытые в ней бриллианты; венок таких же цветов осенял ее чистый белый лоб.
Холодная красота графини Мак-Грегор еще больше подчеркивала обаяние и женственность маркизы д’Арвиль.
В свои тридцать пять лет Сара казалась самое большее тридцатилетней. Нет ничего полезнее для тела, чем холодный эгоизм; человек долго сохраняет молодость с этим куском льда в груди.
Иные сухие, черствые души недоступны волнениям, от которых изнашивается и блекнет лицо, они ощущают лишь уколы уязвленной гордости или обманутого честолюбия – огорчения, которые не слишком влияют на здоровье тела.
Моложавость Сары лишь подтверждает наши слова.
Если не считать известной полноты, которая придавала ее фигуре, менее стройной, чем у г-жи д’Арвиль, сладострастную томность, Сара блистала свежестью молодости; мало кто мог выдержать обманчивый огонь сверкающих черных глаз графини, но влажные губы выдавали ее решительную и плотоядную натуру.
Голубоватые жилки на висках и шее проступали сквозь молочную белизну ее тонкой, словно прозрачной, кожи.
На графине Мак-Грегор было муаровое платье соломенного цвета и в тон ему шелковая туника; простой венок из вечнозеленых листьев, оттенком напоминающих бирюзу, прекрасно гармонировал с ее черными как смоль волосами, разделенными на прямой пробор. Эта строгая прическа придавала нечто античное властному и чувственному профилю этой женщины с орлиным носом.
Немало людей, введенных в заблуждение собственной внешностью, рассматривают ее как явное доказательство своего будущего призвания. Один находит у себя чрезвычайно воинственный вид, он воюет; другой – вид поэта, он слагает стихи; третий – вид конспиратора, он конспирирует; четвертый – вид политика, он политиканствует; пятый – вид проповедника, он проповедует. Сара находила, и не без основания, что у нее царственный вид, и, поверив некогда предсказаниям кормилицы, была по-прежнему убеждена в своей высокой судьбе.
Спускаясь по ступенькам лестницы в зимний сад, маркиза с Сарой увидели там Родольфа; но герцог, очевидно, не заметил их, ибо находился на повороте аллеи.
– Герцог так увлечен разговором с супругой посла, – сказала г-жа д’Арвиль, – что даже не обратил на нас внимания…
– Вы ошибаетесь, дорогая Клеманс, – возразила графиня, которая была близкой приятельницей г-жи д’Арвиль, – герцог прекрасно видел нас, но он меня боится… Его неприязнь ко мне так и не прошла.
– Я отказываюсь понимать то упорство, с которым он избегает вас; я часто журила его за столь странное поведение с таким давним другом. «Мы с графиней Сарой смертельные враги, – ответил он шутливо, – я дал обет никогда не разговаривать с ней, и, по-видимому, обет этот священный, если я отказываю себе в удовольствии беседовать с такой любезной особой». И хотя, дорогая Сара, слова герцога удивили меня, пришлось удовлетвориться ими[71 - Любовь Родольфа к Саре и последовавшие за ней события, случившиеся 17–18 лет тому назад, не стали достоянием светских сплетен: Родольф и Сара были одинаково заинтересованы в том, чтобы скрыть их.].
– Уверяю вас, что причина нашей жестокой ссоры, ссоры полушутливой, полусерьезной, самая невинная; если бы в этом деле не было замешано третье лицо, я давным-давно открыла бы вам эту великую тайну. Но что с вами, дорогое дитя? Вы чем-то озабочены?
– Пустяки… в этой галерее было так жарко, что у меня разболелась голова; давайте посидим здесь, и, надеюсь, моя головная боль пройдет…
– Вы правы, вот как раз уединенный уголок, где вы будете скрыты от глаз тех, кого опечалит ваше отсутствие… – заметила Сара, улыбаясь и делая ударение на последних словах.