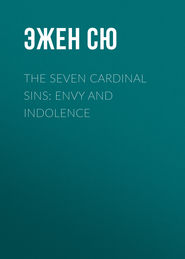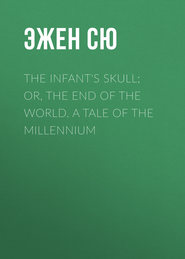По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Парижские тайны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Барону лет пятьдесят; у него редкие седеющие волосы, завитые и припудренные. Слегка выступающий вперед подбородок наполовину скрыт муслиновым, сильно накрахмаленным галстуком ослепительной белизны. Выражение лица говорит о тонком уме, манеры исполнены изящества, за стеклами очков в золотой оправе поблескивает лукавый, проницательный взгляд. Как того требует этикет, барон одет, несмотря на утренний час, во фрак с яркой полосатой ленточкой в петлице. Он положил шляпу на кресло и подошел к камину, а Мэрф продолжал свою работу.
– Вероятно, его высочество провел бессонную ночь, дорогой Мэрф, если судить по объему вашей корреспонденции.
– Монсеньор лег спать в шесть утра. Он написал, между прочим, письмо на восьми страницах маршалу Герольштейна и продиктовал мне не менее длинное письмо председателю государственного совета.
– Надлежит ли мне дождаться пробуждения его высочества, чтобы сообщить ему собранные мною сведения?
– Нет, дорогой барон… Монсеньор велел, чтобы его разбудили не раньше двух-трех часов пополудни: он желает, чтобы вы послали сегодня утром эти депеши со специальным курьером, не дожидаясь понедельника. Вы изложите мне ваши сведения, а я передам их монсеньору, как только он проснется: таковы его распоряжения.
– Превосходно! Мне кажется, что его высочество будет доволен собранной мной информацией. Надеюсь, дорогой Мэрф, что срочная посылка курьера не предвещает ничего дурного. В последних депешах, которые я имел честь передать его высочеству…
– Сообщалось, что там все идет хорошо, и монсеньор пожелал выразить как можно скорее свое удовлетворение председателю государственного совета и маршалу Герольштейна; вот почему он распорядился о срочной отправке курьера.
– Узнаю характер его высочества… если бы речь шла о выговоре, он не стал бы так торопиться; впрочем, в стране нет ни малейших разногласий по поводу твердого и искусного ведения дел нашими временными правителями. Да иначе и быть не может, – продолжал барон, улыбаясь, – часы были не только хороши, но и превосходно отрегулированы нашим повелителем, оставалось лишь аккуратно заводить их, чтобы благодаря своему неизменному и надежному ходу они ежедневно указывали всем подданным употребление каждого дня и часа. Порядок в государстве всегда вызывает уверенность и спокойствие народа; этим и объясняются добрые новости, которые вы сообщили мне.
– А здесь ничего нового, дорогой барон? Ничто не всплыло наружу? Наши таинственные похождения…
– Остались в тайне. Со времени прибытия монсеньора в Париж здесь привыкли видеть его очень редко и лишь у немногих особ, которых он попросил ему представить; все полагают, что он любит уединение и часто совершает загородные прогулки. Его высочество поступил весьма остроумно, отделавшись на время от камергера и адъютанта, привезенных из Германии.
– Они были бы для нас весьма неудобными свидетелями.
– Итак, за исключением графини Сары Мак-Грегор, ее брата, Тома Сейтона оф Холсбери, и Чарльза, их верного раба, никто не знает о переодеваниях его высочества; впрочем, ни графиня, ни ее брат, ни Чарльз не заинтересованы в том, чтобы выдать эту тайну.
– Ах, дорогой барон, – промолвил Мэрф, улыбаясь, – какое несчастье, что эта проклятая графиня овдовела!
– Ведь она вышла замуж не то в тысяча восемьсот двадцать седьмом, не то в двадцать восьмом году?
– Да, в тысяча восемьсот двадцать седьмом, вскоре после смерти этой бедной крошки, которой было бы теперь лет шестнадцать-семнадцать; монсеньор никогда не упоминает о ней, хотя и постоянно ее оплакивает.
– Это тем более естественно, что его недолгий брак был бездетным.
– И знаете, дорогой барон, помимо жалости, которую внушает монсеньору Певунья, его интерес к ней объясняется прежде всего тем, что дочери, о потере которой он так горько жалеет (одновременно ненавидя ее мать), было бы теперь столько же лет, сколько этой несчастной девушке. Я прекрасно понял это.
– В самом деле, есть что-то роковое в том, что эта Сара, от которой мы считали себя избавленными, снова оказалась свободной ровно через полтора года после того, как его высочество потерял свою жену, лучшую из всех супруг. Я уверен, графиня считает это двойное вдовство знамением судьбы.
– И ее безрассудные надежды возродились, более страстные, чем когда-либо; ей известно, однако, что монсеньор питает к ней глубочайшую и вполне заслуженную ненависть. Разве не она явилась причиной… Ах, барон, – воскликнул Мэрф, не докончив фразы, – эта женщина всем приносит несчастье… Дай-то бог, чтобы она не навлекла на нас новых бед!
– Разве она не бессильна теперь, дорогой Мэрф? Прежде она имела на монсеньора то влияние, которое всегда имеет ловкая интриганка на молодого человека, полюбившего в первый раз, особенно при известных нам обстоятельствах; но влияние этой особы было уничтожено ее недостойными махинациями и, главное, воспоминанием о вызванной ею непоправимой беде.
– Прошу вас, дорогой Граун, говорите тише, – сказал Мэрф. – Увы, наступил зловещий для нас месяц январь, и мы приближаемся к тринадцатому числу – дате столь же зловещей; я всегда опасаюсь за монсеньора, когда наступает эта страшная годовщина.
– Однако если даже великий грех подлежит прощению, то монсеньор давно искупил его.
– Умоляю, дорогой Граун, не надо вспоминать об этом, иначе я весь день буду сам не свой.
– Итак, по-моему, попытки графини Сары абсурдны, ибо смерть бедной крошки, о которой вы только что говорили, разорвала последнюю нить, которая могла бы еще привязывать монсеньора к этой женщине; она безумна, если упорствует в своих надеждах.
– Да, но это опасная сумасшедшая. И, как вам известно, ее брат неукоснительно разделяет ее честолюбивые бредни, хотя в настоящее время у этой милой парочки столько же причин для разочарования, сколько их было для надежды полтора года тому назад.
– А сколько несчастий вызвал тогда аббат Полидори, этот нечестивец, своим преступным попустительством.
– Кстати об этом прохвосте. Я слышал, что аббат уже год или два живет в Париже, где он либо бедствует, либо занимается какими-нибудь грязными делишками.
– Какой крах для человека столь образованного, умного, одаренного!
– И известного, кроме того, своей необычайной порочностью… Дай-то бог, чтобы он не встретился с графиней! Союз этих дурных людей был бы весьма опасен.
– Повторяю, дорогой Мэрф, интересы самой графини, как бы безрассудно ни было ее честолюбие, помешают ей воспользоваться авантюристическими наклонностями монсеньора; она не отважится на столь неблаговидный поступок.
– Я тоже надеюсь на это; хотя только случай помешал ей сделать какое-то, по всей вероятности, отвратительное предложение Грамотею, мерзкому злодею, который в настоящее время, полностью обезвреженный, живет в безвестности, быть может, преисполненный раскаяния, у славных крестьян в деревне Сен-Манде. Увы! Я уверен, что монсеньор решился на такое страшное наказание, чтобы отомстить за меня этому негодяю, рискуя поставить себя в весьма щекотливое положение.
– Щекотливое! Нет, нет, дорогой Мэрф; вот как, по-моему, обстоит дело: беглый каторжник, закоренелый убийца, проникает к вам в дом и ударяет вас кинжалом; вы можете его убить в порядке самозащиты или отправить на эшафот; в обоих случаях этому негодяю не избежать смерти; а вместо того чтобы убить злодея или отдать его в руки палача, вы прибегаете к суровому, но справедливому наказанию и тем самым лишаете его возможности причинять вред обществу. Кто осмелится порицать вас за это? Неужели вас могут привлечь к суду из-за отпетого негодяя и осудить за то, что вы сделали меньше, чем дозволено законом, и только лишили зрения того, кого имели право убить? Подумайте, если в порядке самозащиты или мести за явный адюльтер общество признает за мной право на жизнь и смерть ближнего, право чудовищное, бесконтрольное, не подлежащее обжалованию, превращающее меня в судью и палача, то неужели я не могу заменить иной карой смертную казнь, к которой мне дозволяется прибегнуть безнаказанно? И в особенности… в особенности когда речь идет об известном нам с вами злодее? Ибо вопрос заключается именно в этом. Я оставляю в стороне ранг монсеньора, одного из владетельных князей Германского союза. Я знаю, с точки зрения права, знатность не имеет значения; однако в жизни существует фактическая неприкосновенность; давайте представим себе, что против монсеньора возбуждено судебное дело, сколько добрых поступков будет свидетельствовать в его пользу! Сколько дотоле неизвестных вспомоществований, милостей с его стороны выявится в ходе судебного разбирательства! Повторяю, если бы столь странный процесс начался в суде, как вы полагаете, чем бы он кончился?
– Монсеньор говорил мне не раз: он примет обвинительный приговор, не воспользовавшись неприкосновенностью, которую мог бы обеспечить ему присущий ему высокий ранг. Но кто предаст огласке этот печальный случай? Вам известна молчаливость Давида и четырех слуг-венгров из дома на аллее Вдов. Поножовщик, облагодетельствованный монсеньором, не скажет ни одного слова из боязни скомпрометировать себя. Перед своим отъездом в Алжир он поклялся мне хранить полное молчание на этот счет. А сам преступник прекрасно понимает, что пожаловаться на его высочество – значит сложить голову на плахе.
– Наконец, никто из нас троих – монсеньора, вас и меня – не проговорится, не так ли? Хотя эта тайна известна нескольким лицам, она будет свято сохранена. В крайнем случае можно опасаться лишь небольших неприятностей, но при разбирательстве этого странного дела, дорогой Мэрф, выявится столько благородных деяний, что обвинительный приговор обернется триумфом для его высочества.
– Вы вполне успокоили меня. Но не вы ли говорили, что узнали интересные вещи из писем, найденных у Грамотея, а также из признаний, которые сделала Сычиха, когда лежала в больнице с переломом ноги; кстати, эта мерзавка уже вышла оттуда.
– Вот эти сведения, – сказал барон, вынимая из кармана какую-то бумагу. – Они касаются поисков, предпринятых, чтобы установить происхождение девушки по прозвищу Певунья и узнать новый адрес Франсуа Жермена, сына Грамотея.
– Не прочтете ли вы мне эти заметки, дорогой Граун? Мне известны намерения монсеньора, и я сразу пойму, удовлетворят ли его собранные вами сведения. Вы по-прежнему довольны своим агентом?
– О, это ценнейший человек, умный, ловкий, скромный. Иной раз мне даже приходится умерять его пыл; как вам известно, его высочество желает лично заняться некоторыми делами.
– И вашему агенту до сих пор неизвестно участие монсеньора во всем этом?
– Он ровно ничего не знает об этом. Мое положение дипломата служит превосходным предлогом для тех розысков, которые я ему поручаю. У господина Бадино (так зовут нашего агента) много житейской сметки и широкие, явные и тайные, связи почти во всех слоях общества; в свое время он был адвокатом, но ему пришлось продать свою контору из-за всяких подозрительных махинаций; однако у него сохранились весьма точные сведения о капитале и положении своих прежних клиентов; он знает множество тайн и нагло похваляется тем, что торговал ими; два или три раза он богател и разорялся на разных аферах и теперь пользуется слишком дурной славой, чтобы заняться новыми спекуляциями; он прибегает к не совсем законным средствам, чтобы прожить, и напоминает мне Фигаро; послушать его весьма любопытно. Он принадлежит душой тем, кто ему платит, а обманывать нас не в его интересах; впрочем, я устроил за ним тайную слежку: нет никаких оснований остерегаться его.
– Да и сведения, которые он собрал для нас, оказались весьма точными.
– Господин Бадино по-своему честен, и уверяю вас, дорогой Мэрф: тип он чрезвычайно оригинальный; странная жизнь, подобная его жизни, встречается только в Париже и возможна только там. Он очень позабавил бы его высочество, если бы всякие отношения между ними не были нам вредны.
– Может быть, увеличить оплату услуг господина Бадино, как по-вашему?
– Пятьсот франков в месяц плюс накладные расходы, достигающие примерно той же суммы, оплата, по-моему, достаточная; он как будто доволен – дальше будет видно.
– И он не стыдится своего ремесла?
– Он-то? Напротив, скорее гордится им; принося мне свои отчеты, он не преминет напустить на себя важный, я сказал бы даже, дипломатический вид; ибо этот пройдоха притворяется, будто принимает всерьез доверенные ему государственные дела и восхищается тайными связями, которые существуют между частными интересами и судьбами империй. Иной раз у него хватает наглости сказать мне: «Сколько сложностей в управлении государством, неизвестных обычным людям. Кто бы мог подумать, что заметки, которые я приношу вам, ваше сиятельство, имеют отношение к европейским делам!»
– Поверьте, прохвосты вечно стараются представить в розовом свете свои низкие поступки; это льстит их самолюбию. Но вернемся к вашим записям, дорогой барон.
– Вот они, почти в точности составленные со слов господина Бадино.
– Слушаю вас.
И барон прочел ему следующие строки:
– Вероятно, его высочество провел бессонную ночь, дорогой Мэрф, если судить по объему вашей корреспонденции.
– Монсеньор лег спать в шесть утра. Он написал, между прочим, письмо на восьми страницах маршалу Герольштейна и продиктовал мне не менее длинное письмо председателю государственного совета.
– Надлежит ли мне дождаться пробуждения его высочества, чтобы сообщить ему собранные мною сведения?
– Нет, дорогой барон… Монсеньор велел, чтобы его разбудили не раньше двух-трех часов пополудни: он желает, чтобы вы послали сегодня утром эти депеши со специальным курьером, не дожидаясь понедельника. Вы изложите мне ваши сведения, а я передам их монсеньору, как только он проснется: таковы его распоряжения.
– Превосходно! Мне кажется, что его высочество будет доволен собранной мной информацией. Надеюсь, дорогой Мэрф, что срочная посылка курьера не предвещает ничего дурного. В последних депешах, которые я имел честь передать его высочеству…
– Сообщалось, что там все идет хорошо, и монсеньор пожелал выразить как можно скорее свое удовлетворение председателю государственного совета и маршалу Герольштейна; вот почему он распорядился о срочной отправке курьера.
– Узнаю характер его высочества… если бы речь шла о выговоре, он не стал бы так торопиться; впрочем, в стране нет ни малейших разногласий по поводу твердого и искусного ведения дел нашими временными правителями. Да иначе и быть не может, – продолжал барон, улыбаясь, – часы были не только хороши, но и превосходно отрегулированы нашим повелителем, оставалось лишь аккуратно заводить их, чтобы благодаря своему неизменному и надежному ходу они ежедневно указывали всем подданным употребление каждого дня и часа. Порядок в государстве всегда вызывает уверенность и спокойствие народа; этим и объясняются добрые новости, которые вы сообщили мне.
– А здесь ничего нового, дорогой барон? Ничто не всплыло наружу? Наши таинственные похождения…
– Остались в тайне. Со времени прибытия монсеньора в Париж здесь привыкли видеть его очень редко и лишь у немногих особ, которых он попросил ему представить; все полагают, что он любит уединение и часто совершает загородные прогулки. Его высочество поступил весьма остроумно, отделавшись на время от камергера и адъютанта, привезенных из Германии.
– Они были бы для нас весьма неудобными свидетелями.
– Итак, за исключением графини Сары Мак-Грегор, ее брата, Тома Сейтона оф Холсбери, и Чарльза, их верного раба, никто не знает о переодеваниях его высочества; впрочем, ни графиня, ни ее брат, ни Чарльз не заинтересованы в том, чтобы выдать эту тайну.
– Ах, дорогой барон, – промолвил Мэрф, улыбаясь, – какое несчастье, что эта проклятая графиня овдовела!
– Ведь она вышла замуж не то в тысяча восемьсот двадцать седьмом, не то в двадцать восьмом году?
– Да, в тысяча восемьсот двадцать седьмом, вскоре после смерти этой бедной крошки, которой было бы теперь лет шестнадцать-семнадцать; монсеньор никогда не упоминает о ней, хотя и постоянно ее оплакивает.
– Это тем более естественно, что его недолгий брак был бездетным.
– И знаете, дорогой барон, помимо жалости, которую внушает монсеньору Певунья, его интерес к ней объясняется прежде всего тем, что дочери, о потере которой он так горько жалеет (одновременно ненавидя ее мать), было бы теперь столько же лет, сколько этой несчастной девушке. Я прекрасно понял это.
– В самом деле, есть что-то роковое в том, что эта Сара, от которой мы считали себя избавленными, снова оказалась свободной ровно через полтора года после того, как его высочество потерял свою жену, лучшую из всех супруг. Я уверен, графиня считает это двойное вдовство знамением судьбы.
– И ее безрассудные надежды возродились, более страстные, чем когда-либо; ей известно, однако, что монсеньор питает к ней глубочайшую и вполне заслуженную ненависть. Разве не она явилась причиной… Ах, барон, – воскликнул Мэрф, не докончив фразы, – эта женщина всем приносит несчастье… Дай-то бог, чтобы она не навлекла на нас новых бед!
– Разве она не бессильна теперь, дорогой Мэрф? Прежде она имела на монсеньора то влияние, которое всегда имеет ловкая интриганка на молодого человека, полюбившего в первый раз, особенно при известных нам обстоятельствах; но влияние этой особы было уничтожено ее недостойными махинациями и, главное, воспоминанием о вызванной ею непоправимой беде.
– Прошу вас, дорогой Граун, говорите тише, – сказал Мэрф. – Увы, наступил зловещий для нас месяц январь, и мы приближаемся к тринадцатому числу – дате столь же зловещей; я всегда опасаюсь за монсеньора, когда наступает эта страшная годовщина.
– Однако если даже великий грех подлежит прощению, то монсеньор давно искупил его.
– Умоляю, дорогой Граун, не надо вспоминать об этом, иначе я весь день буду сам не свой.
– Итак, по-моему, попытки графини Сары абсурдны, ибо смерть бедной крошки, о которой вы только что говорили, разорвала последнюю нить, которая могла бы еще привязывать монсеньора к этой женщине; она безумна, если упорствует в своих надеждах.
– Да, но это опасная сумасшедшая. И, как вам известно, ее брат неукоснительно разделяет ее честолюбивые бредни, хотя в настоящее время у этой милой парочки столько же причин для разочарования, сколько их было для надежды полтора года тому назад.
– А сколько несчастий вызвал тогда аббат Полидори, этот нечестивец, своим преступным попустительством.
– Кстати об этом прохвосте. Я слышал, что аббат уже год или два живет в Париже, где он либо бедствует, либо занимается какими-нибудь грязными делишками.
– Какой крах для человека столь образованного, умного, одаренного!
– И известного, кроме того, своей необычайной порочностью… Дай-то бог, чтобы он не встретился с графиней! Союз этих дурных людей был бы весьма опасен.
– Повторяю, дорогой Мэрф, интересы самой графини, как бы безрассудно ни было ее честолюбие, помешают ей воспользоваться авантюристическими наклонностями монсеньора; она не отважится на столь неблаговидный поступок.
– Я тоже надеюсь на это; хотя только случай помешал ей сделать какое-то, по всей вероятности, отвратительное предложение Грамотею, мерзкому злодею, который в настоящее время, полностью обезвреженный, живет в безвестности, быть может, преисполненный раскаяния, у славных крестьян в деревне Сен-Манде. Увы! Я уверен, что монсеньор решился на такое страшное наказание, чтобы отомстить за меня этому негодяю, рискуя поставить себя в весьма щекотливое положение.
– Щекотливое! Нет, нет, дорогой Мэрф; вот как, по-моему, обстоит дело: беглый каторжник, закоренелый убийца, проникает к вам в дом и ударяет вас кинжалом; вы можете его убить в порядке самозащиты или отправить на эшафот; в обоих случаях этому негодяю не избежать смерти; а вместо того чтобы убить злодея или отдать его в руки палача, вы прибегаете к суровому, но справедливому наказанию и тем самым лишаете его возможности причинять вред обществу. Кто осмелится порицать вас за это? Неужели вас могут привлечь к суду из-за отпетого негодяя и осудить за то, что вы сделали меньше, чем дозволено законом, и только лишили зрения того, кого имели право убить? Подумайте, если в порядке самозащиты или мести за явный адюльтер общество признает за мной право на жизнь и смерть ближнего, право чудовищное, бесконтрольное, не подлежащее обжалованию, превращающее меня в судью и палача, то неужели я не могу заменить иной карой смертную казнь, к которой мне дозволяется прибегнуть безнаказанно? И в особенности… в особенности когда речь идет об известном нам с вами злодее? Ибо вопрос заключается именно в этом. Я оставляю в стороне ранг монсеньора, одного из владетельных князей Германского союза. Я знаю, с точки зрения права, знатность не имеет значения; однако в жизни существует фактическая неприкосновенность; давайте представим себе, что против монсеньора возбуждено судебное дело, сколько добрых поступков будет свидетельствовать в его пользу! Сколько дотоле неизвестных вспомоществований, милостей с его стороны выявится в ходе судебного разбирательства! Повторяю, если бы столь странный процесс начался в суде, как вы полагаете, чем бы он кончился?
– Монсеньор говорил мне не раз: он примет обвинительный приговор, не воспользовавшись неприкосновенностью, которую мог бы обеспечить ему присущий ему высокий ранг. Но кто предаст огласке этот печальный случай? Вам известна молчаливость Давида и четырех слуг-венгров из дома на аллее Вдов. Поножовщик, облагодетельствованный монсеньором, не скажет ни одного слова из боязни скомпрометировать себя. Перед своим отъездом в Алжир он поклялся мне хранить полное молчание на этот счет. А сам преступник прекрасно понимает, что пожаловаться на его высочество – значит сложить голову на плахе.
– Наконец, никто из нас троих – монсеньора, вас и меня – не проговорится, не так ли? Хотя эта тайна известна нескольким лицам, она будет свято сохранена. В крайнем случае можно опасаться лишь небольших неприятностей, но при разбирательстве этого странного дела, дорогой Мэрф, выявится столько благородных деяний, что обвинительный приговор обернется триумфом для его высочества.
– Вы вполне успокоили меня. Но не вы ли говорили, что узнали интересные вещи из писем, найденных у Грамотея, а также из признаний, которые сделала Сычиха, когда лежала в больнице с переломом ноги; кстати, эта мерзавка уже вышла оттуда.
– Вот эти сведения, – сказал барон, вынимая из кармана какую-то бумагу. – Они касаются поисков, предпринятых, чтобы установить происхождение девушки по прозвищу Певунья и узнать новый адрес Франсуа Жермена, сына Грамотея.
– Не прочтете ли вы мне эти заметки, дорогой Граун? Мне известны намерения монсеньора, и я сразу пойму, удовлетворят ли его собранные вами сведения. Вы по-прежнему довольны своим агентом?
– О, это ценнейший человек, умный, ловкий, скромный. Иной раз мне даже приходится умерять его пыл; как вам известно, его высочество желает лично заняться некоторыми делами.
– И вашему агенту до сих пор неизвестно участие монсеньора во всем этом?
– Он ровно ничего не знает об этом. Мое положение дипломата служит превосходным предлогом для тех розысков, которые я ему поручаю. У господина Бадино (так зовут нашего агента) много житейской сметки и широкие, явные и тайные, связи почти во всех слоях общества; в свое время он был адвокатом, но ему пришлось продать свою контору из-за всяких подозрительных махинаций; однако у него сохранились весьма точные сведения о капитале и положении своих прежних клиентов; он знает множество тайн и нагло похваляется тем, что торговал ими; два или три раза он богател и разорялся на разных аферах и теперь пользуется слишком дурной славой, чтобы заняться новыми спекуляциями; он прибегает к не совсем законным средствам, чтобы прожить, и напоминает мне Фигаро; послушать его весьма любопытно. Он принадлежит душой тем, кто ему платит, а обманывать нас не в его интересах; впрочем, я устроил за ним тайную слежку: нет никаких оснований остерегаться его.
– Да и сведения, которые он собрал для нас, оказались весьма точными.
– Господин Бадино по-своему честен, и уверяю вас, дорогой Мэрф: тип он чрезвычайно оригинальный; странная жизнь, подобная его жизни, встречается только в Париже и возможна только там. Он очень позабавил бы его высочество, если бы всякие отношения между ними не были нам вредны.
– Может быть, увеличить оплату услуг господина Бадино, как по-вашему?
– Пятьсот франков в месяц плюс накладные расходы, достигающие примерно той же суммы, оплата, по-моему, достаточная; он как будто доволен – дальше будет видно.
– И он не стыдится своего ремесла?
– Он-то? Напротив, скорее гордится им; принося мне свои отчеты, он не преминет напустить на себя важный, я сказал бы даже, дипломатический вид; ибо этот пройдоха притворяется, будто принимает всерьез доверенные ему государственные дела и восхищается тайными связями, которые существуют между частными интересами и судьбами империй. Иной раз у него хватает наглости сказать мне: «Сколько сложностей в управлении государством, неизвестных обычным людям. Кто бы мог подумать, что заметки, которые я приношу вам, ваше сиятельство, имеют отношение к европейским делам!»
– Поверьте, прохвосты вечно стараются представить в розовом свете свои низкие поступки; это льстит их самолюбию. Но вернемся к вашим записям, дорогой барон.
– Вот они, почти в точности составленные со слов господина Бадино.
– Слушаю вас.
И барон прочел ему следующие строки: