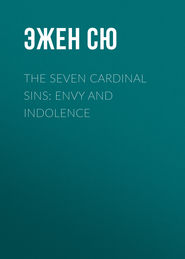По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Парижские тайны. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Твои услуги? Разве я не оплачиваю их всеми возможными способами?
Надо сказать, что Родольф не приписывал этим жестоким словам того унизительного смысла, который усмотрел в них Мэрф из-за своего подневольного положения; к несчастью, именно так он истолковал их. Лицо Мэрфа побагровело от стыда, и он поднес сжатые кулаки ко лбу с выражением горестного возмущения; но тут настроение его резко изменилось, и, бросив взгляд на Родольфа, благородное лицо которого было искажено чувством гневного презрения, он подавил вздох, посмотрел на молодого человека с ласковым состраданием и сказал ему взволнованно:
– Монсеньор, опомнитесь!.. Вы неблагоразумны!..
Эти слова окончательно вывели из себя Родольфа; глаза его дико сверкнули, губы побелели, и он подошел к Мэрфу, угрожающе подняв руку.
– Как ты смеешь?! – воскликнул он.
Мэрф отступил на шаг и проговорил скороговоркой, как бы помимо воли:
– Монсеньор, монсеньор, вспомните о тринадцатом января!
Эти слова оказали поразительное действие на Родольфа. Его лицо, искаженное гневом, разгладилось. Он пристально взглянул на Мэрфа, опустил голову и после минутного молчания прошептал изменившимся голосом:
– Ах, сударь, как вы жестоки… я полагал, однако, что мое раскаяние, мои угрызения совести!.. И это вы!.. Вы!..
Родольф не докончил фразы, его голос прервался; он опустился на каменную скамью и закрыл лицо руками.
– Монсеньор, – воскликнул Мэрф в отчаянии, – мой добрый господин, простите вашего старого преданного Мэрфа! Только доведенный до крайности и опасаясь, увы, не за себя… а за вас… последствий вашей горячности, я сказал без гнева, без упрека, сказал помимо воли и с чувством сострадания… Монсеньор, я был не прав, что обиделся. Боже мой, кому лучше знать ваш характер, как не мне, человеку, который всегда был при вас с самого вашего детства!.. Умоляю, скажите, что прощаете меня за то, что напомнил вам об этом роковом дне… Увы… Чего вы только не делали, дабы искупить…
Родольф поднял голову; он был очень бледен.
– Замолчи, замолчи, старый друг, – сказал он грустно и мягко своему давнему спутнику, – я благодарен тебе, что одним словом ты утишил мою гневную вспышку; я не стану просить прощения за дерзости, которые тебе наговорил: ты сам знаешь, что «от сердца до уст далеко», как говорят добрые люди в нашем краю. Я был не в себе, позабудем об этом.
– Увы! Теперь вы долго будете грустить… Какой же я дурак!.. Больше всего на свете мне хочется, чтобы ваше мрачное настроение развеялось… А я снова вызываю его своей глупой обидчивостью! Бог ты мой! Какой толк быть честным человеком с седеющей головой, если ты не умеешь терпеливо сносить незаслуженные упреки. Так нет же, – продолжал Мэрф с волнением, тем более комичным, что оно не вязалось с его обычным спокойствием, – так нет же, мне, видите ли, требуется, чтобы меня хвалили с утра до ночи, чтобы мне повторяли: «Господин Мэрф лучший из слуг; господин Мэрф, вы замечательный человек; боже, как он хорош собой, господин Мэрф, нет и не бывало преданности, равной вашей, славный Мэрф!» Полно, старый попугай, тебе, значит, требуется, чтобы кто-то беспрестанно гладил твою старую голову.
Вспомнив затем о ласковых словах, сказанных ему Родольфом в начале беседы, он воскликнул с еще большим пылом:
– Сам же он назвал меня своим хорошим, старым, верным Мэрфом!.. А я, словно какой-нибудь мужлан, из-за его невольной вспышки!.. Черт возьми!.. Я готов выдрать себе волосы.
И достойный джентльмен поднес руки к вискам.
Эти слова и жесты Мэрфа доказывали, что отчаяние его достигло предела. К несчастью или к счастью для Мэрфа, он был почти совсем лыс, и покушение на свою шевелюру ничем ему не грозило, о чем он искренне сожалел, ибо когда слова сменялись делом, то есть когда его скрюченные пальцы встречали лишь гладкую, блестящую, как мрамор, поверхность черепа, достойный эсквайр был смущен и пристыжен, считая себя хвастуном, бахвалом из-за проявленного им самомнения. Поспешим сказать в оправдание Мэрфа, что у него была некогда самая густая, самая золотистая шевелюра, когда-либо украшавшая голову йоркширского дворянина.
Разочарование Мэрфа по поводу отсутствия его шевелюры обычно забавляло Родольфа. Но в эту минуту его мысли были серьезны, горестны. Не желая, однако, усугублять раскаяние своего спутника, он сказал ему с мягкой улыбкой:
– Послушай, мой славный Мэрф, ты как будто превозносил до небес то доброе, которое я сделал госпоже Жорж…
– Монсеньор…
– Но тебя удивляет мой интерес к этой бедной погибшей девушке?
– Монсеньор, умоляю вас… Я был не прав… не прав…
– Нет… Я понимаю, первое впечатление могло обмануть тебя… Но поскольку ты знаешь всю мою жизнь, поскольку помогаешь мне с редкой преданностью, с редким мужеством выполнить задачу, которую я возложил на себя, я обязан по велению долга или, если хочешь, из чувства благодарности объяснить тебе, что не поступаю легкомысленно.
– Мне ли не знать этого, монсеньор!
– Тебе известны мои мысли о том добре, что может делать человек. Выручать порядочных людей, которые жалуются на свою долю, – хорошо. Разузнавать о тех, кто честно, мужественно ведет битву с жизнью, и приходить им на помощь, иной раз без их ведома… вовремя предупреждать нищету и соблазн, ведущие к преступлению… еще лучше. Обелять в их собственных глазах и возвращать к честной, достойной жизни тех, кто сумел сохранить великодушные чувства среди унизительного презрения, гнетущей нищеты и окружающей испорченности, и ради этого смело входить в соприкосновение с нищетой, испорченностью и грязью… лучше всего. Преследовать непримиримой ненавистью, неумолимым возмездием порок, подлость, преступление, ползают ли они в грязи или купаются в роскоши, не что иное, как акт справедливости… Но слепо помогать заслуженной нищете, позорить, осквернять милосердие и жалость, профанировать сочувствие и подаяние – благих, целомудренных утешительниц моей израненной души… и дарить их людям недостойным, бесчестным было бы отвратительно, постыдно, кощунственно. Это значило бы порождать сомнение в существовании бога, а дающий должен пробуждать веру в него.
– Монсеньор, я вовсе не хотел сказать, что вы облагодетельствовали кого-нибудь недостойного.
– Еще одно слово, мой старый друг. Госпожа Жорж и несчастная девушка, которую я поручил ее попечению, вышли из двух противоположных миров, но обе очутились в бездне злосчастья. Жизнь одной из них, счастливой, богатой, любимой, уважаемой, наделенной всеми добродетелями, была растоптана, загублена лицемерным негодяем, за которого ее выдали недальновидные родители… Я говорю с радостью, что без меня эта несчастная женщина погибла бы в нищете, ибо стыд мешал ей просить о помощи.
– Ах, монсеньор, когда мы поднялись на ее мансарду, какую мы увидели там страшную нищету! Это было ужасно, ужасно!.. И когда после долгой болезни она, так сказать, пришла в себя здесь, в этом спокойном доме, каково же было ее удивление, ее благодарность! Вы правы, монсеньор, помощь, оказываемая людям, попавшим в такую горькую беду, внушает веру в бога.
– И помогать им – значит почитать его! Да, согласен, нет ничего более возвышенного, чем мудрая и спокойная добродетель, нет никого более достойного уважения, чем такая женщина, как госпожа Жорж. Воспитанная доброй и благоразумной матерью в разумном соблюдении своих обязанностей, она ни разу не нарушила его… ни разу!!! И мужественно прошла через самые тяжкие испытания. Разве не славим мы всевышнего во всей его благости, спасая от разврата одну из редких натур, которых ему было угодно наделить многими качествами?.. Не заслуживает ли жалости, интереса, уважения… да, уважения, эта несчастная девочка, которая, предоставленная самой себе, истерзанная, заключенная в тюрьму, униженная и поруганная, свято сохранила в глубине сердца ростки добра, заложенные в нее богом? Если бы ты слышал бедняжку… при первом выражении сочувствия с моей стороны, как первом дружеском сердечном слове, обращенном к ней, лучшие свойства, тончайшие чувства, самые поэтичные и чистые помыслы пробудились в ее простодушной душе наподобие того, как весной множество полевых цветов непроизвольно распускается на лугах, пригретых солнцем! Во время часовой беседы с Лилией-Марией я открыл в ней сокровище доброты, деликатности, мудрости, мой дорогой Мэрф. Улыбка тронула мои губы, а слезы навернулись на глаза, когда среди своей пленительной и разумной болтовни она доказывала мне необходимость откладывать по сорок су в день, чтобы уберечь себя от нужды и дурных соблазнов. Бедная крошка! Она говорила все это таким серьезным, убежденным голоском; она была так искренне довольна, что дает мне хороший совет, и так искренне обрадовалась, когда я обещал слушаться ее!.. Я был тронут, уверяю тебя, тронут до слез, я уже говорил тебе об этом… А меня еще обвиняют в том, что я человек пресыщенный, черствый, непреклонный… О нет, нет! Слава богу, я еще чувствую иногда, как бурно, горячо бьется мое сердце… Но ты сам растроган, мой старый друг… Право, Лилии-Марии не придется ревновать тебя к госпоже Жорж, ее участь не оставит тебя безразличным.
– Ваша правда, монсеньор… Эта просьба о том, чтобы вы откладывали по сорок су в день – ведь она думала, что вы рабочий, вместо того чтобы выпрашивать их для себя… да, эта просьба тронула меня, быть может, больше, чем следовало бы.
– Стоит мне подумать, что у этой девочки, как говорят, есть мать, богатая, уважаемая, которая бессовестно бросила ее… О, если это так – надеюсь, я узнаю правду и все расскажу тебе. О, если это так… горе… горе этой женщине! Ее ждет грозное возмездие… Мэрф, Мэрф… я еще никогда не чувствовал такой беспощадной ненависти, как при мысли об этой незнакомке. Ты же знаешь, Мэрф, знаешь… иная месть дорога моему сердцу… иная боль драгоценна мне… я жажду иных слез!
– Увы, монсеньор, – проговорил Мэрф, огорченный выражением сатанинской злобы, исказившей при этих словах черты Родольфа, – я знаю, что люди, заслуживающие внимания и участия, часто говорят о вас: «Так, значит, он добрый ангел!» Зато другие, заслуживающие презрения и ненависти, восклицают, проклиная вас в порыве отчаяния: «Так, значит, он демон!..»
– Тише, сюда идут госпожа Жорж с Марией… Распорядитесь, чтобы все было готово к нашему отъезду: мне надо пораньше быть в Париже.
Глава XIV
Расставание
Благодаря стараниям г-жи Жорж Марию (так мы будем называть отныне Певунью) нельзя было узнать.
Хорошенький круглый чепчик, какие носят местные крестьянки, и причесанные на пробор густые белокурые волосы обрамляли ее девственное личико. Большой шейный платок из белого муслина скрещивался у нее на груди и уходил под высокий квадратный нагрудник фартучка из переливчатой тафты, голубые и розовые отсветы которой падали на коричневое платье, словно сшитое по ней.
Личико девушки было сосредоточенно, ибо большое счастье погружает иные натуры в невыразимую грусть, в светлую меланхолию.
Родольфа не удивила задумчивость Марии. Появись она веселая, болтливая, у него сложилось бы менее высокое мнение о ней.
С присущим ему тактом он не сказал ни одного лестного слова Марии, хотя она и блистала красотой.
Родольф чувствовал нечто торжественное, священное в возрождении этой души, вырванной у порока.
Госпожа Жорж, на серьезном лице которой лежал отпечаток долгих страданий и покорности судьбе, смотрела на Марию со снисходительностью и чуть ли не материнской нежностью: так пришлись ей по душе мягкость и изящество этой девушки.
– Вот и моя детка… Она пришла поблагодарить вас за все, что вы для нее сделали, – проговорила г-жа Жорж, подводя Певунью к Родольфу.
При слове «детка» Певунья медленно подняла большие голубые глаза на свою покровительницу и посмотрела на нее с чувством неизъяснимой благодарности.
– Спасибо вам за Марию, дорогая госпожа Жорж, она заслуживает вашей нежной заботливости… да и всегда будет достойна ее.
– Господин Родольф, – проговорила Певунья дрожащим голосом, – вы поймете, не правда ли, что я не нахожу слов…
– Ваше волнение мне и так все сказало, Мария…
– О, она и сама понимает, что должна благодарить провидение за ниспосланное ей счастье, – растроганно молвила г-жа Жорж. – Когда она вошла в мою спальню, ее первым побуждением было броситься на колени перед распятием.
– Ведь теперь благодаря вам, господин Родольф, я смею молиться, – проговорила Мария, смотря на своего покровителя.
Надо сказать, что Родольф не приписывал этим жестоким словам того унизительного смысла, который усмотрел в них Мэрф из-за своего подневольного положения; к несчастью, именно так он истолковал их. Лицо Мэрфа побагровело от стыда, и он поднес сжатые кулаки ко лбу с выражением горестного возмущения; но тут настроение его резко изменилось, и, бросив взгляд на Родольфа, благородное лицо которого было искажено чувством гневного презрения, он подавил вздох, посмотрел на молодого человека с ласковым состраданием и сказал ему взволнованно:
– Монсеньор, опомнитесь!.. Вы неблагоразумны!..
Эти слова окончательно вывели из себя Родольфа; глаза его дико сверкнули, губы побелели, и он подошел к Мэрфу, угрожающе подняв руку.
– Как ты смеешь?! – воскликнул он.
Мэрф отступил на шаг и проговорил скороговоркой, как бы помимо воли:
– Монсеньор, монсеньор, вспомните о тринадцатом января!
Эти слова оказали поразительное действие на Родольфа. Его лицо, искаженное гневом, разгладилось. Он пристально взглянул на Мэрфа, опустил голову и после минутного молчания прошептал изменившимся голосом:
– Ах, сударь, как вы жестоки… я полагал, однако, что мое раскаяние, мои угрызения совести!.. И это вы!.. Вы!..
Родольф не докончил фразы, его голос прервался; он опустился на каменную скамью и закрыл лицо руками.
– Монсеньор, – воскликнул Мэрф в отчаянии, – мой добрый господин, простите вашего старого преданного Мэрфа! Только доведенный до крайности и опасаясь, увы, не за себя… а за вас… последствий вашей горячности, я сказал без гнева, без упрека, сказал помимо воли и с чувством сострадания… Монсеньор, я был не прав, что обиделся. Боже мой, кому лучше знать ваш характер, как не мне, человеку, который всегда был при вас с самого вашего детства!.. Умоляю, скажите, что прощаете меня за то, что напомнил вам об этом роковом дне… Увы… Чего вы только не делали, дабы искупить…
Родольф поднял голову; он был очень бледен.
– Замолчи, замолчи, старый друг, – сказал он грустно и мягко своему давнему спутнику, – я благодарен тебе, что одним словом ты утишил мою гневную вспышку; я не стану просить прощения за дерзости, которые тебе наговорил: ты сам знаешь, что «от сердца до уст далеко», как говорят добрые люди в нашем краю. Я был не в себе, позабудем об этом.
– Увы! Теперь вы долго будете грустить… Какой же я дурак!.. Больше всего на свете мне хочется, чтобы ваше мрачное настроение развеялось… А я снова вызываю его своей глупой обидчивостью! Бог ты мой! Какой толк быть честным человеком с седеющей головой, если ты не умеешь терпеливо сносить незаслуженные упреки. Так нет же, – продолжал Мэрф с волнением, тем более комичным, что оно не вязалось с его обычным спокойствием, – так нет же, мне, видите ли, требуется, чтобы меня хвалили с утра до ночи, чтобы мне повторяли: «Господин Мэрф лучший из слуг; господин Мэрф, вы замечательный человек; боже, как он хорош собой, господин Мэрф, нет и не бывало преданности, равной вашей, славный Мэрф!» Полно, старый попугай, тебе, значит, требуется, чтобы кто-то беспрестанно гладил твою старую голову.
Вспомнив затем о ласковых словах, сказанных ему Родольфом в начале беседы, он воскликнул с еще большим пылом:
– Сам же он назвал меня своим хорошим, старым, верным Мэрфом!.. А я, словно какой-нибудь мужлан, из-за его невольной вспышки!.. Черт возьми!.. Я готов выдрать себе волосы.
И достойный джентльмен поднес руки к вискам.
Эти слова и жесты Мэрфа доказывали, что отчаяние его достигло предела. К несчастью или к счастью для Мэрфа, он был почти совсем лыс, и покушение на свою шевелюру ничем ему не грозило, о чем он искренне сожалел, ибо когда слова сменялись делом, то есть когда его скрюченные пальцы встречали лишь гладкую, блестящую, как мрамор, поверхность черепа, достойный эсквайр был смущен и пристыжен, считая себя хвастуном, бахвалом из-за проявленного им самомнения. Поспешим сказать в оправдание Мэрфа, что у него была некогда самая густая, самая золотистая шевелюра, когда-либо украшавшая голову йоркширского дворянина.
Разочарование Мэрфа по поводу отсутствия его шевелюры обычно забавляло Родольфа. Но в эту минуту его мысли были серьезны, горестны. Не желая, однако, усугублять раскаяние своего спутника, он сказал ему с мягкой улыбкой:
– Послушай, мой славный Мэрф, ты как будто превозносил до небес то доброе, которое я сделал госпоже Жорж…
– Монсеньор…
– Но тебя удивляет мой интерес к этой бедной погибшей девушке?
– Монсеньор, умоляю вас… Я был не прав… не прав…
– Нет… Я понимаю, первое впечатление могло обмануть тебя… Но поскольку ты знаешь всю мою жизнь, поскольку помогаешь мне с редкой преданностью, с редким мужеством выполнить задачу, которую я возложил на себя, я обязан по велению долга или, если хочешь, из чувства благодарности объяснить тебе, что не поступаю легкомысленно.
– Мне ли не знать этого, монсеньор!
– Тебе известны мои мысли о том добре, что может делать человек. Выручать порядочных людей, которые жалуются на свою долю, – хорошо. Разузнавать о тех, кто честно, мужественно ведет битву с жизнью, и приходить им на помощь, иной раз без их ведома… вовремя предупреждать нищету и соблазн, ведущие к преступлению… еще лучше. Обелять в их собственных глазах и возвращать к честной, достойной жизни тех, кто сумел сохранить великодушные чувства среди унизительного презрения, гнетущей нищеты и окружающей испорченности, и ради этого смело входить в соприкосновение с нищетой, испорченностью и грязью… лучше всего. Преследовать непримиримой ненавистью, неумолимым возмездием порок, подлость, преступление, ползают ли они в грязи или купаются в роскоши, не что иное, как акт справедливости… Но слепо помогать заслуженной нищете, позорить, осквернять милосердие и жалость, профанировать сочувствие и подаяние – благих, целомудренных утешительниц моей израненной души… и дарить их людям недостойным, бесчестным было бы отвратительно, постыдно, кощунственно. Это значило бы порождать сомнение в существовании бога, а дающий должен пробуждать веру в него.
– Монсеньор, я вовсе не хотел сказать, что вы облагодетельствовали кого-нибудь недостойного.
– Еще одно слово, мой старый друг. Госпожа Жорж и несчастная девушка, которую я поручил ее попечению, вышли из двух противоположных миров, но обе очутились в бездне злосчастья. Жизнь одной из них, счастливой, богатой, любимой, уважаемой, наделенной всеми добродетелями, была растоптана, загублена лицемерным негодяем, за которого ее выдали недальновидные родители… Я говорю с радостью, что без меня эта несчастная женщина погибла бы в нищете, ибо стыд мешал ей просить о помощи.
– Ах, монсеньор, когда мы поднялись на ее мансарду, какую мы увидели там страшную нищету! Это было ужасно, ужасно!.. И когда после долгой болезни она, так сказать, пришла в себя здесь, в этом спокойном доме, каково же было ее удивление, ее благодарность! Вы правы, монсеньор, помощь, оказываемая людям, попавшим в такую горькую беду, внушает веру в бога.
– И помогать им – значит почитать его! Да, согласен, нет ничего более возвышенного, чем мудрая и спокойная добродетель, нет никого более достойного уважения, чем такая женщина, как госпожа Жорж. Воспитанная доброй и благоразумной матерью в разумном соблюдении своих обязанностей, она ни разу не нарушила его… ни разу!!! И мужественно прошла через самые тяжкие испытания. Разве не славим мы всевышнего во всей его благости, спасая от разврата одну из редких натур, которых ему было угодно наделить многими качествами?.. Не заслуживает ли жалости, интереса, уважения… да, уважения, эта несчастная девочка, которая, предоставленная самой себе, истерзанная, заключенная в тюрьму, униженная и поруганная, свято сохранила в глубине сердца ростки добра, заложенные в нее богом? Если бы ты слышал бедняжку… при первом выражении сочувствия с моей стороны, как первом дружеском сердечном слове, обращенном к ней, лучшие свойства, тончайшие чувства, самые поэтичные и чистые помыслы пробудились в ее простодушной душе наподобие того, как весной множество полевых цветов непроизвольно распускается на лугах, пригретых солнцем! Во время часовой беседы с Лилией-Марией я открыл в ней сокровище доброты, деликатности, мудрости, мой дорогой Мэрф. Улыбка тронула мои губы, а слезы навернулись на глаза, когда среди своей пленительной и разумной болтовни она доказывала мне необходимость откладывать по сорок су в день, чтобы уберечь себя от нужды и дурных соблазнов. Бедная крошка! Она говорила все это таким серьезным, убежденным голоском; она была так искренне довольна, что дает мне хороший совет, и так искренне обрадовалась, когда я обещал слушаться ее!.. Я был тронут, уверяю тебя, тронут до слез, я уже говорил тебе об этом… А меня еще обвиняют в том, что я человек пресыщенный, черствый, непреклонный… О нет, нет! Слава богу, я еще чувствую иногда, как бурно, горячо бьется мое сердце… Но ты сам растроган, мой старый друг… Право, Лилии-Марии не придется ревновать тебя к госпоже Жорж, ее участь не оставит тебя безразличным.
– Ваша правда, монсеньор… Эта просьба о том, чтобы вы откладывали по сорок су в день – ведь она думала, что вы рабочий, вместо того чтобы выпрашивать их для себя… да, эта просьба тронула меня, быть может, больше, чем следовало бы.
– Стоит мне подумать, что у этой девочки, как говорят, есть мать, богатая, уважаемая, которая бессовестно бросила ее… О, если это так – надеюсь, я узнаю правду и все расскажу тебе. О, если это так… горе… горе этой женщине! Ее ждет грозное возмездие… Мэрф, Мэрф… я еще никогда не чувствовал такой беспощадной ненависти, как при мысли об этой незнакомке. Ты же знаешь, Мэрф, знаешь… иная месть дорога моему сердцу… иная боль драгоценна мне… я жажду иных слез!
– Увы, монсеньор, – проговорил Мэрф, огорченный выражением сатанинской злобы, исказившей при этих словах черты Родольфа, – я знаю, что люди, заслуживающие внимания и участия, часто говорят о вас: «Так, значит, он добрый ангел!» Зато другие, заслуживающие презрения и ненависти, восклицают, проклиная вас в порыве отчаяния: «Так, значит, он демон!..»
– Тише, сюда идут госпожа Жорж с Марией… Распорядитесь, чтобы все было готово к нашему отъезду: мне надо пораньше быть в Париже.
Глава XIV
Расставание
Благодаря стараниям г-жи Жорж Марию (так мы будем называть отныне Певунью) нельзя было узнать.
Хорошенький круглый чепчик, какие носят местные крестьянки, и причесанные на пробор густые белокурые волосы обрамляли ее девственное личико. Большой шейный платок из белого муслина скрещивался у нее на груди и уходил под высокий квадратный нагрудник фартучка из переливчатой тафты, голубые и розовые отсветы которой падали на коричневое платье, словно сшитое по ней.
Личико девушки было сосредоточенно, ибо большое счастье погружает иные натуры в невыразимую грусть, в светлую меланхолию.
Родольфа не удивила задумчивость Марии. Появись она веселая, болтливая, у него сложилось бы менее высокое мнение о ней.
С присущим ему тактом он не сказал ни одного лестного слова Марии, хотя она и блистала красотой.
Родольф чувствовал нечто торжественное, священное в возрождении этой души, вырванной у порока.
Госпожа Жорж, на серьезном лице которой лежал отпечаток долгих страданий и покорности судьбе, смотрела на Марию со снисходительностью и чуть ли не материнской нежностью: так пришлись ей по душе мягкость и изящество этой девушки.
– Вот и моя детка… Она пришла поблагодарить вас за все, что вы для нее сделали, – проговорила г-жа Жорж, подводя Певунью к Родольфу.
При слове «детка» Певунья медленно подняла большие голубые глаза на свою покровительницу и посмотрела на нее с чувством неизъяснимой благодарности.
– Спасибо вам за Марию, дорогая госпожа Жорж, она заслуживает вашей нежной заботливости… да и всегда будет достойна ее.
– Господин Родольф, – проговорила Певунья дрожащим голосом, – вы поймете, не правда ли, что я не нахожу слов…
– Ваше волнение мне и так все сказало, Мария…
– О, она и сама понимает, что должна благодарить провидение за ниспосланное ей счастье, – растроганно молвила г-жа Жорж. – Когда она вошла в мою спальню, ее первым побуждением было броситься на колени перед распятием.
– Ведь теперь благодаря вам, господин Родольф, я смею молиться, – проговорила Мария, смотря на своего покровителя.