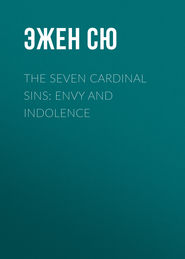По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жан Кавалье
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Потом, став на колени, он проговорил тихим, сосредоточенным голосом:
– Господи, наконец-то наступил день твоего суда!
Не считая это странное явление чудом, Кавалье все-таки не мог победить своего волнения, услышав опять звуки невидимых рогов между двумя раскатами грома, среди этой бурной ночи. Ефраим все время молился, преклонив колена на пороге своего жилища. Кавалье, отдаваясь религиозному порыву и вместе с тем неопределенному предчувствию надежды, опустился возле лесничего.
Показались новые чудеса. С верхушки одной из башен замка поднялся громадный огненный столб. Несмотря на ужасную грозу, едва веял легкий ветерок. Ослепительное пламя, казалось, поднималось до грозовых туч и своим блеском освещало замок, леса, горы, небосклон, бросая красноватый отблеск на двух севенцев. Эгоаль был страшен и великолепен в то же время. Вдруг бесчисленное множество подвижных точек, блестящих и голубоватых, похожих на блуждающие огоньки, быстро помчалось поперек леса, то по обрывистому скату горы, то по тропинке, ведущей к замку. Благодаря свету от все еще блестевшего огненного столба, оба севенца увидели в отдалении несколько фигур, одетых в белое. Род фосфорического сияния блистал вокруг их голов с распущенными волосами.
У Ефраима закружилась голова. Все, свидетелем чему он был, казалось ему выражением Божественной воли. Огненный столб потух; звуки труб прекратились. Гроза дико бушевала. Тем не менее то там, то сям слышались, вперемежку с громом, неясные и отдаленные крики. Дорога к замку своим крутым спуском касалась шалаша лесничего. При почти непрерывном блеске молнии Ефраим и Кавалье увидели, как с высоты быстро спустилась по дороге одна из фигур, уже замеченных ими в отдалении. Это был ребенок, лет около пятнадцати. Его длинное платье развевалось; его волосы блестели в темноте. Он был бледен, как призрак. Быстро прошел он мимо них и крикнул звучным голосом, простирая руки к небу:
– К оружию, Израиль! Покинь шатры!..
Потом он исчез в извилинах горы, которые вели к долине. Не останавливаясь, промчались мимо другие дети. Иные безумно кричали:
– Я истреблю в долине идола всех тех, которые в ней обитают. Так сказал Господь!
Другие вопили:
– Наточите мечи о железные лезвия своих заступов, и пусть слабый скажет: я силен! Так приказал Господь! Пусть проснутся народы, пусть взойдут на вершины гор! Я ожидаю их в долине Иосафата. Убивайте, убивайте! Не щадите ни стариков, ни юношей, ни дев, ни детей! Папа антихрист! Настал час падения Вавилона! Бейте, бейте папистов!.. Да не умилостивятся сердца ваши!
Ефраим, с глазами, метавшими искры, казалось, вдыхал в себя резню.
– Внемлешь ты им, внемлешь, Израиль? – крикнул он. – Слышишь их пророческий глас? Эгоаль – новый Хорив. Дух Божий проник в жилище брата Авраама. Огненные языки блестят над челом пророков.
И, полный возбуждения, Ефраим прочел могучим голосом следующий, так странно соответствовавший случаю стих их книги «Судей» (III, 27): «Пришед же вострубил трубою на горе Ефремовой; и сошли с ним сыны израилевы с горы и Аод шел впереди них».
В эту бурную ночь дю Серр выпустил на свободу свои жертвы. Почти опьяненные опиумом, потерянные, полные безумного восторга, с волосами, намазанными каким-то фосфорическим составом, эти маленькие пророки спустились в таком виде с разных сторон горы и рассыпались по долине. Во всем этом было столько чудесного, что Кавалье, наперекор своему недоверию, был вскоре проникнут тем же восторгом, как и Ефраим. Эти крики, взывавшие к войне и возмущению, слишком соответствовали его жгучим порывам. Он и не желал проникнуть в истинную причину этих чудес: он готов был слепо рвануться на новый путь, который Привидение указывало ему.
– Ты прав, брат Ефраим, час наступил! – воскликнул Жан. – Собери эгоальских пастухов и дровосеков, я соберу молодежь из долины. Завтра с зарей севенцы возьмутся за оружие.
В это мгновение, при свете молнии на вершине спуска, примыкавшего к шалашу лесничего, появились два новых пророка. Держась за руки, они промчались мимо двух севенцев. Волнообразные складки их длинной белой одежды развевались за ними. Сияние окружало их прекрасные светлые кудри. Глаза горели восторгом, щеки пылали. Они блистали такой дивной красотой, что их можно было принять за двух лучезарных архангелов, спускающихся быстрыми шагами со святой горы. Кавалье побледнел: это были Селеста и Габриэль.
– Брат, сестрица! – крикнул он, простирая к ним руки в то мгновение, когда они промчались мимо.
Но Селеста и Габриэль, увлекаемые своим порывом, не узнали его. Бросив на него сверкающий взгляд и ничего не ответив, они крикнули звучным пророческим голосом, повелительно указывая на дорогу к долине:
– К оружию, Израиль! Твои волны спускаются в долину, как потоки с гор. К оружию!
И помчавшись дальше, они скрылись в мрачную глубину оврага.
– К оружию, к оружию! – повторил ошеломленный, охваченный страхом Кавалье и бросился вслед за Селестой и Габриэлем.
– К оружию! Собаки пожрут тела моавитян; лошади поплывут по колено в крови. Ко мне, Лепидот, ко мне, Рааб и Балак! – крикнул Ефраим.
Он бросился на неоседланную лошадь, позвав собак, которые бешено лаяли. Одной рукой он схватил свое длинное ружье, другой – факел из древесной смолы и понесся с ужасающей смелостью но обрывистому горному спуску, по следам пророков, повторяя громовым голосом:
– К оружию, Израиль, к оружию!
В это мгновение гроза усилилась. Молния ударила в замок стекольщика.
ПСИХЕЯ ТУАНОН
Пока религиозное возмущение охватывает севенцев, мы поведем читателя в скромную гостиницу в Алэ – городе, расположенном верстах в десяти от описанного нами места действия.
Этот трактир, на вывеске которого набожно изображен был сельский крест, содержался добрым католиком Фомой Рэном. Можно было предположить, что туда прибыли важные путешественники: у ворот стояла почтовая коляска с выпряженными вспотевшими лошадьми. Тут же находились кучер, считавший только что полученные деньги, и слуга, одетый почтарем, который помогал отвязывать коробки веселой и болтливой служанке, настоящей субретке французской комедии. Молодой человек, очень маленький и очень полный, с самодовольным и заурядным лицом, одетый в дорожное платье, весьма смешно расшитое бесчисленными вышивками, присматривал за ними. Боясь, как бы один из ящиков не был снят с верха коляски без достаточной предосторожности, полный молодой человек решительно прыгнул на одно из колес, обращаясь к слуге:
– Черт побери! Будь же осторожен, Маскариль: ведь это ящик с марсиальскими духами... и... ты...
– Я уже просил вас, сударь, не тыкать мне, – проговорил почтительно и вместе нахально высокорослый слуга, прерывая своего хозяина. – Я только под этим условием оставил дом его сиятельства герцога Неверрского и поступил к вам.
– Ну, ну, довольно, Маскариль! Обращайтесь только поосторожнее с этим ящиком, – проговорил молодой человек, краснея.
– Вы, значит, не знаете, господин Табуро, – проговорила, хитро улыбнувшись и показав два ряда жемчужных зубов, смуглая служанка, – вы не знаете, что господин Маскариль разрешает своим господам тыкать себе только в том случае, если они герцоги? И еще вопрос, позволит ли он герцогам патентованным[12 - Уже с начала 16-го века феодальная, средневековая знать совсем вырождалась во Франции, благодаря усилению монархизма. Двор нарочно привлекал «сеньоров», чтобы разорить их. Здесь в два поколения вымирали старые роды, а на смену им выдвигалась новая аристократия – детище короны, которая присвоила себе право творить даже герцогов патентованных (dues а brevets), т. е. без герцогств – один пустой титул по жалованной грамоте.].
– Молчите, Зербинета! – сердито приказал Табуро.
Тут послышался очаровательный голосок, кричавший с возрастающим нетерпением:
– Господин Табуро, г. Табуро, г. Табуро!
При первом призыве счастливый обладатель этого прекрасного имени быстро приподнял голову вверх, к окошку, откуда, казалось, доносился голос. При втором – он крикнул:
– Я здесь, прекрасная Психея! – и потерял равновесие.
При третьем же оклике Табуро тяжело спрыгнул с колеса, потащив за собой несчастный ящик с духами, который разбился с глухим шумом. Но очаровательный голос не умолкал; и в нем уже звучали гневные нотки. Бедняга бросился в гостиницу, отвечая:
– Я здесь, здесь, здесь!
Когда Табуро вошел в мрачную комнату гостиницы, Психея-Туанон принялась раздражительно бранить своего толстого рыцаря за медлительность. Ей было самое большее лет двадцать. Она была маленького роста, но обладала такой совершенной красотой форм, таким прелестным изяществом юности, что Людовик XIV, перед которым Туанон играла Психею в интермедии Мольера того же названия, не мог удержаться, чтобы не сказать, глядя, как танцевало это очаровательное созданье:
– Вот настоящая Психея!
С того дня все придворные иначе не называли девицу Туанон, как Психея. Вскоре она затмила известных танцовщиц Пекур и Дематэн, до тех пор не имевших себе соперниц в плясках сильфид в тогдашнем балете.
Трудно было встретить существо, более очаровательное и вместе с тем более наивное и веселое, чем свежая, красивая Туанон. Светло-каштановые волосы с золотыми оттенками, окружали ее белоснежный лоб. Под тонко очерченными бровями вспыхивали и замирали два больших серо-голубых глаза, окаймленных длинными темными ресницами. Глаза эти, смотря по капризу Туанон, то искрились лукавством, то томно заволакивались. Вздернутый носик, насмешливый, дерзкий, вызывающий, непокорный, с незаметно двигавшимся при малейшем волнении розовым кончиком, придавал особенную возбуждающую привлекательность этому чудному личику: и все оно было такое белое, розовое, пурпурное, со своими пухлыми вздернутыми розовыми губками, все дышало чувственностью и лукавством.
Туанон не знала ни отца, ни матери. История ее жизни очень проста. Подкидыш, она была подобрана на одной из улиц Парижа труппой канатных плясунов, которую не покидала до четырнадцати лет. Однажды Фулье, знаменитый историк балета и преподаватель танцев в Бургонском замке, увидел на королевской площади танцующую Туанон. Пораженный ее миловидностью и изяществом, он предложил акробатам уступить ее ему. В непродолжительное время, благодаря наставлениям своего опытного учителя, Туанон сделала блестящие успехи и выступила во всех интермедиях. Наконец она была замечена королем: кличка «Психея» сделала ее известною.
Что касается нравственного мира, то Туанон принадлежала к школе Марион Делорм и мадемуазели де Ланкло[13 - Marion Delorme и L'Enclos – знаменитые парижские прелестницы 17-го века.]. И если, как и эти ее прелестные соперницы, она не могла похвастаться постоянством, зато искала и выбирала своих почитателей среди лучшего общества. Ее последняя привязанность или, лучше сказать, ее первая и единственная страсть, какую она испытала в жизни, был знакомый нам маркиз Танкред де Флорак. Маркиз Танкред был во всех отношениях достоин внушить такую привязанность. Никто еще не приобрел такой известности небрежной пышностью своих белокурых париков, вызывающей смелостью своих вырезных кафтанов, наподобие известных женщин, роскошью своих экипажей, одежды и кружев. Он был весь кружевной, от воротника до обуви. Самые его табакерки, часы и всякие туалетные коробочки служили ему орудием очарования: такого они были «страшно хорошего тона». Всегда выпачканный испанским табаком, вечно пьяный, большой картежник, ловкий академист[14 - Во времена Людовика XIV академистами называли «львов» высшего света, которые прикрывали свою умственную пустоту отборными фразами, надерганными из вождей лжеклассицизма. Они обязательно заглядывали даже в словарь Французской Академии, который был окончен в 1694 году.], опасный противник в игре в мяч, божественно игравший на лютне и танцевавший куранту или характерные па не хуже самого Этанга[15 - L'Etang – знаменитый танцовщик времен Людовика XIV.], блестящий, насмешливый и нахальный маркиз де Флорак имел бесчисленное множество приключений, но исключительно среди изысканных придворных женщин: как чумы, избегал он горничных, мещанок и актрис.
Часто Туанон со вздохом следила за прекрасным маркизом, когда он являлся в места на сцене показывать свои ленты, парик и прочие прелести и нахально прерывал актеров. Но маркиз оставался холоден, как лед, в ответ на кокетливые заигрывания Психеи. Такое пренебрежение, конечно, довело до отчаяния горячую и взбалмошную головку Туанон. Она вступила в борьбу с этим равнодушием с такой стремительностью, что осчастливила Танкреда почти против его желания. Но счастье не изменило его приемов: он по-прежнему обращался с бедной девушкой крайне пренебрежительно. Досадно ли ей стало, или из духа противоречия, или настоящая любовь заговорила в ней, но, несмотря на все нахальство и черствость маркиза, Психея, не знавшая других законов, кроме своих изменчивых прихотей, воспылала к этому жантильому глубоким, ревнивым, но кротким и покорным чувством. Наконец-то она пережила все жгучие порывы первой страсти.
Мало-помалу она удалила от себя придворных, составлявших ее постоянное общество. Достаточно богатая, чтобы не нуждаться в театре, она жила в уединении, считая себя бесконечно, безумно счастливой, когда Танкред снисходил до нее, проведя с ней какой-нибудь часок, без особенно жестоких насмешек над ее вкусами «кающейся Магдалины». Эта связь, легкомысленная, почти грубая со стороны маркиза, робкая и преданная со стороны Туанон, продолжалась три месяца. По истечении этого времени, Танкред принужден был следовать за своим полком в Севены. К отчаянию Психеи при разлуке примешалась лишняя горечь, когда маркиз безумно захохотал в ответ на уверения бедной девушки, что она испытывает страшные страдания, покидая его. Однажды она осмелилась даже заплакать. Но маркиз решительно заявил: во-первых, что самые прекрасные глаза в мире становятся отвратительными, когда они красны; во-вторых, что эти выходки заплаканной Ариадны[16 - Ариадна – героиня одного из мифов Эллады, которым пользовались многие художники. Ариадна была та дочь критского короля Миноса, которая спасла афинского героя Тезея после убийства им чудовища Минотавра, снабдив его клубком ниток для выхода из лабиринта.], которые позволяет себе танцовщица по отношению к нему, очень странны и делают его всеобщим посмешищем. С тех пор Туанон старалась улыбаться, завидев Танкреда.
По отъезде маркиза Туанон безумно страдала. Ее любовь достигла таких размеров, что, подвергая себя опасности быть беспощадно выгнанной, она решилась последовать за Танкредом. Вот по какому случаю она избрала своим рыцарем Клода Табуро. Сын откупщика по налогам, Табуро унаследовал громадное богатство. Желая играть роль большого барина, но, прежде всего, безумно влюбленный в Туанон, он начал с того, что предложил озолотить ее. В ответ Туанон указала ему на дверь, как оно и подобало такому «буржуйчику», как он. Но, задумав поехать в Севены и находя дорогу опасной для двух женщин (она брала с собой Зербинету), Психея, послав за Клодом, сказала ему:
– Господин Табуро! Вы говорите, что любите меня?
– Больше, чем свою душу, прекрасная Психея! Это так же верно, как то, что вы не имеете соперниц в танцах балетов «Сисонны» и «Тартиллэ».