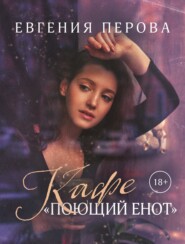По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Созданные для любви
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я встала, и он тоже поднялся.
– Всего хорошего, Евгений Леонидович! Вы мне очень помогли.
– Но… Лена, я надеюсь, это останется между нами?!
– Ну что вы, Евгений Леонидович, конечно! Я никому не скажу.
Я дошла почти до двери, но вдруг вернулась.
– Да, Лена?
Я подошла совсем близко к нему и тихо произнесла, глядя прямо в глаза:
– Вы не можете запретить мне любить вас! Так что придется потерпеть, пока само не пройдет. А может быть, вы меня дождетесь, Евгений Леонидович? Всего-то три года подождать! До моих восемнадцати. Я же вам нравлюсь, правда?
Он страшно покраснел, но не нашел, что ответить, только открыл и закрыл рот. А я улыбнулась ему улыбкой победительницы и медленно вышла из класса, зная, что Евгений Леонидович смотрит мне вслед. Первое время после этого разговора он избегал меня и почти не спрашивал на уроках, но я вела себя скромно, как будто ничего между нами и не было. Зачем мне лишние неприятности?
Интересно, что именно в это время у меня проявились удивительные способности, которые в нашей семье были только у Онечки. Она всегда все знала наперед! Выглядело это так: мы с ней чем-нибудь заняты, и вдруг она прислушивается и говорит:
– Пойди-ка, детинька, помоги маме, у нее сумки тяжелые.
Я подхватывалась и бежала вниз – мама действительно подходила к дому с двумя тяжеленными сумками.
– Как ты это делаешь?! – спрашивала я. – Откуда ты знаешь?!
Онечка только загадочно улыбалась. И вот, когда я рассказывала ей про наш разговор с Евгением Леонидовичем, я вдруг неожиданно для себя встала и спустилась вниз – у подъезда оказалась Маняша, которая возвращалась с рынка и волокла сумку на колесиках.
– И как ты узнала? – улыбаясь, спросила Онечка. – Как ты это сделала?
– Сама не знаю!
Я была поражена. Но эта способность к предвидению будущего осталась у меня надолго: я заранее знала, когда меня вызовут, какого урока не будет, придет ли нерегулярно ходящий автобус, есть ли смысл идти в магазин за сахаром и еще многое другое, иногда очень нужное для жизни, а иногда совершенно бесполезное. Ни у Маняши, ни у мамы таких способностей не было.
Ничего особенного между мной и Евгением Леонидовичем больше не происходило: я лелеяла свою любовь к нему, но никак это не показывала, и постепенно он стал забывать, что меня следует опасаться, так что иной раз мы с ним подолгу разговаривали, нечаянно задержавшись в классе – обо всем, не только о физике. Я видела, что ему со мной интересно, а когда я перевела для него с французского языка статью из научного журнала, Евгений Леонидович проникся ко мне почтением, а я, скромно потупив глаза, призналась, что владею тремя языками (считая школьный английский) и даже немного знаю латынь – все благодаря Онечке.
Онечка умерла через год после моего признания в любви к Евгению Леонидовичу – кстати, рассказывала я ей об этом по-французски. Онечке было девяносто три года, когда она нас покинула: умерла во сне. Не лежала ни дня, не болела – просто тихо ушла. Каждое утро она вставала, сама заправляла кровать, одевалась – Онечка никогда не носила халатов, только блузка и юбка. Очки она надела только в восемьдесят лет, и никаких старческих маразмов у нее не наблюдалось. Память, конечно, ухудшилась, да и слышать стала плохо, но главной ее печалью были ноги, которые стали отказывать уже давно, лет с семидесяти пяти. По квартире она еще передвигалась, но на улицу уже давно не выходила.
Мы так горевали! Мы все, даже Маняша, которая чаще остальных препиралась с Онечкой. Собственно, только она и препиралась. Такой уж у нее был характер – вздорный и скандальный, а темперамент – буйный: веник с мотором, как она сама говорила. Не зря же она все время напевала: «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка», так что Онечка за глаза иной раз называла ее «паровозом». Такая она и была, Маняша: «другого нет у нас пути – в руках у нас винтовка». Если сравнивать нас всех со стихиями, то Маняша, несомненно, воплощала стихию огня – бессмысленную и беспощадную. Мама, конечно же, была воздушная: «ночной Зефир струит эфир» – это она. Теплый бриз Средиземноморья. Онечка – это земля. Родная, надежная, сильная, дарящая энергию и жизнь. Наша опора. И когда она ушла, огонь стал постепенно угасать, время от времени вспыхивая безумным фейерверком, мамина воздушность померкла, а я…
Для меня оставалась лишь стихия воды, но эта вода была в замерзшем состоянии – снег или лед. А теперь лед катастрофически таял: я просто исходила слезами. Как я буду жить без своего лучшего друга, как я смогу справляться с Маняшей – без Онечки?! Окончив школу, я перееду к маме в Москву, но еще целый год впереди! Ни я, ни мама почему-то не задумывались, как будет существовать без нас Маняша, а ведь ей было уже за семьдесят, и чувствовала она себя гораздо хуже, чем Онечка в этом возрасте: гипертония, сердце, склероз, артрит…
Евгений Леонидович не мог не заметить моего состояния и однажды с участием спросил, что случилось – я тут же заплакала. Узнав, что у меня умерла прабабушка, он слегка удивился моему горю, но разве я могла объяснить, кем для меня была Онечка. Он постарался меня утешить, я всхлипывала и кивала, а когда, успокоившись, направилась к двери, он вдруг обнял меня. Не знаю, сколько мы так простояли, но это было такое счастье! Потом Евгений Леонидович опомнился и быстро вышел, а я еще долго стояла, зажмурившись, и лелеяла это необыкновенное ощущение.
А летом он завел себе девушку! Я так расстроилась. И что это за девушка: какая-то мелкая и невыразительная. Разве можно сравнить ее со мной?! Теперь я уже прекрасно осознавала, как хороша, и вовсю этим пользовалась. Нет, я не бегала за ним, не поджидала после уроков и не дышала в телефонную трубку, как развлекались некоторые из подруг. Я просто на него смотрела во время урока. Но так, что Евгений Леонидович начинал запинаться, повторяться, а потом и вовсе терял нить повествования. Один раз я так «приворожила» его взглядом, что он замолчал минут на пять, пока ученики не начали оборачиваться, чтобы посмотреть, куда уставился учитель – но я вовремя опустила глаза. Это было удивительное ощущение полной власти над чужой волей! Я не злоупотребляла, да и уроки физики бывали не каждый день, но Евгению Леонидовичу это, конечно, не нравилось. Да и кому бы понравилось?! Он подошел ко мне, выбрав момент, когда никого не было в классе:
– Лена, я прошу: прекрати это!
– О чем вы, Евгений Леонидович?
– Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Пожалуйста! Ты мешаешь мне вести урок.
– Но я же ничего не делаю!
Я подняла на него глаза… и он не смог отвести взгляд. Еще немного, и мы бы поцеловались! Но кто-то с грохотом промчался по коридору и разрушил наваждение. Евгений Леонидович выглядел жалко: он страшно покраснел, даже пот на лбу выступил.
– Я же знаю, что нравлюсь вам, – сказала я тихо. – Зачем вам другая девушка? Дождитесь меня, осталось совсем немного! Пожалуйста!
И поцеловала его в щеку, привстав на цыпочки. А потом убежала. На следующем уроке физики я поменялась местами с кем-то из девчонок – с этой парты мне уже было неудобно строить глазки Евгению Леонидовичу. Он обходил меня за километр, а я страдала, не понимая, почему он заводит каких-то посторонних девиц, если мы с ним так нравимся друг другу! На выпускном я сама пригласила Евгения Леонидовича на вальс – он слегка смутился, но не отказал. Он старательно выдерживал дистанцию, но я улучила момент и прошептала:
– Я по-прежнему люблю вас, Евгений Леонидович! Вы меня дождетесь?
Но он не дождался: когда я была на втором курсе, он женился. Правда, на совсем другой девушке. Конечно, этого следовало ожидать, но мне все-таки стало больно. Я же нравилась ему, нравилась!
Поступила я в Московский педагогический университет на факультет иностранных языков. Это было непростое время для меня – как, впрочем, и для всех в девяностые. Жила я у мамы – Бронштейны оставили ей трехкомнатную квартиру. Но отношения у нас налаживались плохо: мама не знала, как со мной обращаться, а я вовсю доказывала свою взрослость и самостоятельность. Конечно, в Москве для меня было гораздо больше возможностей найти работу, чем в нашем заштатном городишке, но пришлось вернуться: слегла Маняша.
Сразу было понятно, что ухаживать за ней придется мне: я так и не успела устроиться на работу, а мама… Как оказалось, мама нас и содержала всю жизнь – раньше я об этом как-то не задумывалась. У нее была кандидатская степень, высокая должность и большая зарплата, правда, я толком не знала, чем она занималась в своем «почтовом ящике». Онечкина пенсия – одни слезы, как она говорила, а наша Маняша слишком часто меняла место работы, потому что везде немедленно начинала бороться за справедливость и обычно терпела поражение. К тому же деньги у нее так и утекали сквозь пальцы: всегда находился кто-то, кому нужна срочная помощь. Правда, довольно скоро мамин «почтовый ящик» развалился, но ей удалось устроиться в какую-то частную фирму. Понятно, что она не могла бросить такое выгодное место. А для меня работа нашлась в родной школе, но сначала я даже не вспомнила про Евгения Леонидовича – не до того было. После московской жизни возвращение в дом детства далось мне нелегко – я отвыкла от вечного железнодорожного шума за окнами, от убогости ветхого строения, от жизни в маленьком городке, где все на виду и все друг друга знают. Мне было удобно присматривать за Маняшей – школа рядом, всегда можно прибежать, если что. Часто приезжала мама, но толку от нее было мало: она расстраивалась, нервничала и уезжала разбитая.
С Евгением Леонидовичем мы встретились случайно, еще в августе. Конечно, я заранее знала, что мы увидимся! День был яркий, солнечный, я шла по Садовой улице – распущенные волосы, короткое бирюзовое платье с широкой юбочкой, сшитое собственноручно, летящая походка… Он вышел из переулка и обомлел, увидев меня:
– Лена?! Какая ты красивая! Приехала в отпуск?
– Нет, насовсем. Мы теперь с вами коллеги, Евгений Леонидович. Буду английский преподавать в нашей школе. Так что мы сможем часто видеться.
И, помахав ему рукой, я пошла дальше. Он стоял и смотрел мне вслед. А я еще немножко покружилась, раскинув руки – счастье переполняло меня: он влюбился, влюбился! Я знала это так твердо, как если бы он сам сказал мне. Влюбился! И весь день я напевала привязавшуюся насмерть песенку: «Скоро осень, за окнами август, от дождя потемнели кусты, и я знаю, что я тебе нравлюсь, как когда-то мне нравился ты…» Правда, песня выходила у меня уж очень бодрой! А август выдался на редкость солнечным, так что никаких потемневших кустов вокруг не наблюдалось.
Первого сентября я была сама скромность: строгий костюмчик, тоже пошитый мной – от Онечки остались неисчерпаемые запасы разных тряпочек. Юбка приличной длины, пиджачок в талию, невысокие каблучки. Волосы я убрала в узел-ракушку. Училка, одно слово! Но учительница из меня получилась плохая: мне не нравилась школа, раздражали ученики, тупицы и оболтусы. Нет, учительство явно не моя стихия, но что делать. С младшеклассниками мне было проще, они безобидные. А вот старшие классы… Бойкие девицы и здоровенные парни, не отягощенные воспитанием, всего-то на пять-шесть лет меня младше. Поэтому я постаралась им сразу показать, кто в доме хозяин: вошла в 9-й «А» и заговорила по-английски. Говорила довольно долго, а потом спросила:
– Ну что, кто-нибудь способен перевести мою речь? Хотя бы приблизительно?
Робко поднялись две девичьи руки, потом еще одна – высокий худой паренек с задней парты. Его-то я и подняла – он помялся, но выговорил:
– Ну-у… Вы сказали, что если мы хотим так бойко говорить по-английски, как вы, то должны заниматься как следует. Как-то так.
– Да, приемлемо. Смысл передан. А еще я сказала, что характер у меня тяжелый, так что… сами понимаете. Лучше меня не сердить.
– А что вы сделаете, если рассердитесь?
– Пристрелю, – серьезно ответила я.
Они неуверенно захихикали.
Я не собиралась заводить роман с Евгением Леонидовичем. Мы просто работали вместе, несколько раз в день виделись в учительской, улыбались друг другу, изредка разговаривали. Но я видела, что он влюбляется все сильнее и сильнее, а при встречах смотрит на меня тоскующим взглядом. Иногда Евгений Леонидович словно случайно перехватывал меня по пути домой, но я-то знала, что он специально поджидал меня в глухом переулке. Что скрывать, мне нравилась его отчаянная влюбленность! Да, признаюсь, я подогревала ее потихоньку, слегка кокетничая с ним, но все это казалось мне невинной игрой, забавным флиртом, который тешил мое самолюбие, и я даже не представляла, какой огонь разжигаю. Я словно раздвоилась: одна Лена сознавала, что ничего хорошего не получится из этих отношений и надо бы оставить Евгения Леонидовича в покое, но другая упрямо закусывала губу: я хочу, хочу, чтобы он был моим! Наверно, я его все-таки любила. Мне казалось, что я всегда смогу отыграть назад, отступить, отпустить поводок, но не задумывалась о том, смогу ли противостоять, если он решит подойти еще ближе?
Длились эти странные отношения почти год – честно говоря, мне было не до романов: Маняше становилось все хуже, я уже боялась оставлять ее одну и стала задумываться, не найти ли сиделку? Я понимала, что платить придется маме, моей зарплаты еле хватало на лекарства. Маняша стала совсем невыносимой – злобной, раздражительной, подозревала меня в каких-то кознях: то отказывалась есть приготовленную мной кашу и требовала квашеной капусты, которую ей и жевать было нечем, а то устраивала скандал по поводу каких-то мифических мужиков, которых я якобы вожу в дом, отчего я просто лезла на стенку!
Перелом в наших отношениях с Евгением Леонидовичем случился во вторую неделю сентября. За лето я чудовищно устала от Маняши: а в пятницу накануне она еще и упала, ничего себе, слава богу, не сломав, но мне пришлось вызывать «Скорую», мы обе распсиховались, я две ночи плакала и в школу пришла в расстроенных чувствах, не зная, как собраться для урока. Но оказалось, что я перепутала дни, и мой урок в 7-м «Б» – третий, а не первый, как я почему-то решила. Все разошлись по классам, я сидела одна и плакала – не хотела, но слезы сами лились. И тут вошел Евгений Леонидович – увидев мою зареванную физиономию, он всполошился, а когда узнал причину, и вовсе огорчился:
– Бедная моя! Что ж такое…