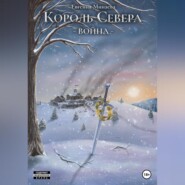По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Человек в белом шарфе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Личная неприязнь.
– А был какой–то другой?
– Не знаю точно… Просто личная неприязнь – это что–то такое… вроде ненависти, что ли. Желание сделать плохо кому–то другому. А у меня этого ничего не было. Я понимаю, бумага все стерпит, но это так глупо звучит…
– Этот мотив не влияет на квалификацию содеянного.
– Вот и прошлый следователь мне то же самое сказал. Так какой смысл об этом спорить?
– Смысл есть, – возразил Абрамов. – Нам Верховный Суд говорит обязательно выяснять мотивы содеянного. Так что будьте добры рассказать, Татьяна Эдуардовна.
– Это долгая история.
– Это моя работа – слушать ваши долгие истории.
– Я даже не знаю, с чего начать…
– С начала.
– А, вы любите клише, – она усмехнулась.
– Бывает иногда, – не дал себя сбить Саша. – Рассказывайте.
– Александр Валентинович, давайте все–таки не будем.
– Будем. Вы не поверите, Татьяна, но вы – не единственная, чье дело мне приходилось расследовать. И – хочу сказать без ложной скромности – свою работу я привык делать хорошо.
– Ну что же, – улыбнулась она одними губами. Глаза у нее были грустными. – Тогда слушайте.
Мы познакомились, когда мне было всего двадцать.
Как это обычно бывает, на студенческой вечеринке в общаге. Я помню этот момент прекрасно – я сидела у окна, а он зашел в комнату… и все вдруг потеряло свое значение. Я оборвала разговор на полуслове.
А он сразу же пошел ко мне.
Нам все завидовали. Говорили: «Ну надо же, какая пара, какая красивая любовь». А она и была красивой.
Он носил мне розы. Мне нравились бледно–розовые, а еще я любила, когда из них составляли букеты, такие, с ирисами или другими сиреневыми или синими цветами. Считала это сочетание очень нежным.
Андрей смеялся надо мной, но букеты исправно покупал.
Мы любили уютные кафе и рестораны, могли сидеть в них часами… Любили гулять по вечерам, а иногда он брал у отца машину, и мы просто колесили по городу.
После окончания институтов мы решили пожениться.
В последнее время он много учился, говорил, в Политехе сильно нагружают. Я не жаловалась, сама училась. И работала – нас на последнем курсе уже хорошо брали на работу… Но мы дорожили каждой минутой, которую проводили вместе.
Был обычный вечер. Хотя нет, какой же обычный, если мы были вместе? Начало июля, дипломы защищены, родители разъехались по дачам. Мы гуляли допоздна.
Я помню, мы шли по парку, и мне вдруг стало так хорошо–хорошо. Я раскинула руки и побежала по тропинке, и мне казалось, вот–вот смогу взлететь.
А он бежал рядом, и мнилось: у нас обоих вот–вот крылья раскроются, полетим высоко–высоко…
Я смотрела на него, и думала – вот до чего же мне повезло. Он был высокий такой, статный, очень красивый. Светловолосый. Я рядом с ним, наверное, серой мышкой смотрелась.
Вы часто ходите по темным переулкам? Наверное, нет, вы же следователь, вы прекрасно знаете, что в этих темных переулках нас может поджидать.
И мы не ходили. Старались не ходить.
Мы жили рядом. Если идти прямо по Подвойского, его дом был крайним на пересечении с Большевиков, а мой – во дворах, ближе в сторону Солидарности. И тем вечером мы направлялись к нему.
А я почему–то не захотела.
Ну вот бывает так, не хочешь куда–то идти, и все. Я уперлась – пойдем ко мне. Родителей все равно нет. А у меня бутылка вина в серванте. И сыр – маасдам, его любимый.
Андрею было все равно. Он посмеялся, взял меня за руку, и мы пошли. В самом деле, мы столько же раз ночевали у меня, сколько и у него. Не было разницы.
Но в этот день была. Мы не туда повернули на этом перекрестке: пересечении Подвойского и Товарищеского.
Знаете, я никогда не думала, что один жалкий поворот может столько всего изменить…
Мы шли по улице, взявшись за руки, когда вдруг услышали крик. Андрей дернулся было в ту сторону, но я удержала. Вызывать полицию, кричать: «Пожар!». Я была готова на все, только не отпускать его туда.
Но ходить никуда и не надо было. Я сделала шаг назад, и у меня под каблуком что–то хрустнуло. Наклонила голову и увидела помаду. А потом еще туфлю, справа от меня, около машины. А затем – как в кустах у этой машины что–то копошится.
Андрей тоже это увидел и сделал мне знак уходить. Куда там. Я очень, очень сильно боялась, но пошевелиться не могла. И мы услышали:
– Ну что ты там копаешься? Все цацки я уже снял…
И из–за угла прямо на нас вышел высокий парень: черная куртка, черная шапка. А потом еще один – точь в точь такой же, только ростом пониже. Возившийся у машины разогнулся, и мне показалось, я увидела край белого шарфа.
А потом они быстро переглянулись и кинулись на нас.
Мне потом уже рассказали: в этом дворе за минуту до нашего появления ограбили семейную пару. Женщину оглушили и оттащили в кусты, а мужчину слишком сильно ударили по голове и проломили череп. По количеству крови было понятно, что труп, значит, дело стало «мокрым». А мы оказались свидетелями этого дела.
И нас решили… убрать.
Я плохо помню, как Андрей оттолкнул меня. Он кричал что–то вроде: «Беги!», и я даже попыталась. Но, понимаете, когда тот, с белым шарфом, налетел на него, ударил в живот…
Когда Андрей согнулся, я еще ничего не понимала. Мне хотелось кричать ему: «Ну же, давай, разгибайся! Поднимайся, что ты упал?!». Я поверить не могла, что он может упасть от одного удара.
А первые двое подбежали ко мне, и я увидела нож в руке одного из них.
Я закричала, кажется, и тут второй ударил меня, затыкая. Я отшатнулась от удара, почувствовала вкус собственной крови во рту, а потом упала.
Я слышала шаги. Они удалялись. Я до сих пор не понимаю, почему тот, с ножом, не добил меня. Я сильно ударилась, из головы шла кровь, может быть, решил, что все равно умру… Не знаю, только помню, как я поползла к скорчившемуся на земле Андрею.
Он лежал скорчившись, прижав колени к груди. Я подползла к нему, взяла за плечо. И только тогда поняла, почему он упал от единственного удара. У него был распорот живот, и кровь лилась и лилась на асфальт.