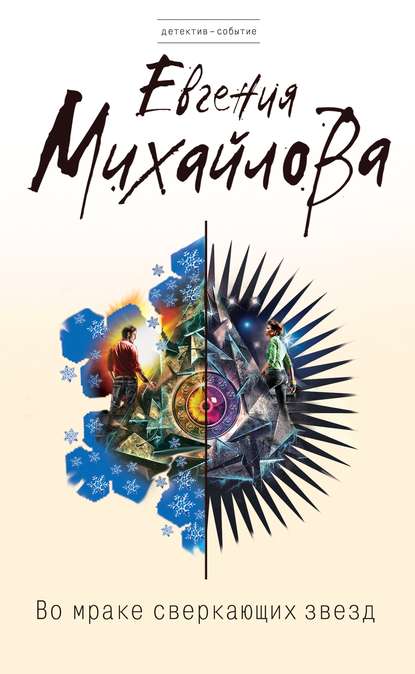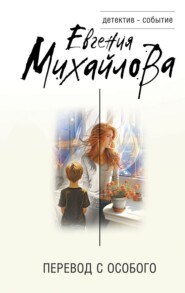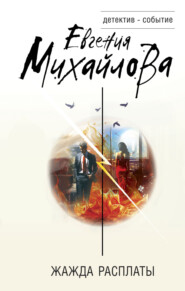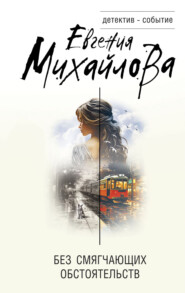По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Во мраке сверкающих звезд
Автор
Серия
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пространство крошечного щитового домика, состоящего из одной комнаты, сначала было темно-серым, потом посветлело. Еще немного, и сквозь неплотные ставни начнут пробиваться солнечные лучи. К этому моменту нужно сжаться, спрятаться, исчезнуть, чтобы самой не чувствовать ни биения сердца, ни жжения в глазах, как будто слезы вытекли, а их соль осталась. Светлана провела руками по волосам. Густым темно-рыжим волосам, заплетенным в две толстые косички, стянутые аптечными резинками. Их пора вымыть. Они кажутся ей одним застывшим колтуном. Вымыть – это сделать над собой страшное усилие. Она не может с этим справиться уже… может, уже неделю? Или больше? Она давно не считает дни.
Она заставила себя сесть, отбросив одеяло, нащупать ногами, не глядя, комнатные тапки, потому что смотреть на то, что осталось от ее ног, невозможно. Она удивляется, что способна ими ходить, этими косточками, обтянутыми кожей. Все-таки решилась, встала и пошла в маленькую ванную. Включила бак-обогреватель, медленно почистила зубы – это было еще больно, но не так, как раньше. Стянула большую мужскую майку, которая скрывала ее тело полностью, расплела косы, встала под душ. Ей удалось вымыть голову, помыться, ни разу не взглянув на свое тело. Но она теряла сознание от усталости. Выбралась из ванны с трудом. Вытиралась из последних сил. Вернулась в комнату, села на кровать, взяла с тумбочки гребенку с редкими зубьями – ее волосы трудно поддавались щеткам – и причесалась. Опять заплела косички, стянула резинками. Откинулась на спинку деревянной кровати, отдохнула, собиралась уже влезть под одеяло, но тут вкрадчивый солнечный луч вдруг осветил деревянный овал на столе у окна. Это было перевернутое зеркало.
На это понадобилось, наверное, полдня. Светлана остановила часы, поэтому не знала, сколько времени прошло. Но она сделала, наверное, двадцать подходов к этому зеркалу и возвращалась ни с чем. Точнее, с твердым желанием спрятаться под одеяло. И все-таки она сделала это. Никому не расскажешь, какое это невероятное преодоление – просто посмотреть на себя в зеркало. Первый раз. После всего.
Это был ужас – то, что она увидела. Она пошатнулась и чуть не выронила довольно тяжелое зеркало из рук. Раны и шагреневая кожа в глубоких морщинах – все, что осталось от ее лица. Она уже не помнила, какой была раньше. Только огромные глаза удивительного орехового цвета с зелеными искрами, которые освещали радужку, как драгоценный камень, – только они были ей знакомы. Она смотрела, искала в них ответ. Больше ей советоваться не с кем. И глаза мрачно говорили: да, можно только умереть. Все кончено. Невыносимые страдания не до конца раздавленной бабочки не нужны ей и не видны миру. Никто ничего не заметил и никогда не узнает. Что ее, живую, уже убили, а она никак не придумает, как прекратить эти муки.
Светлана положила зеркало, опять деревянной поверхностью вверх, добрела до кровати, задыхаясь, стараясь не дышать глубоко – так болела грудь. Все. Наконец она лежит, и мысли тонут в тяжелом, вязком сне. Все в тысячный или миллионный раз повторится, потом перейдет в полный провал, который хорош уже потому, что это остановит бесконечное решение одной и той же задачи: как все это прекратить? Как умереть бессильному, беспомощному человеку, которого зачем-то продолжает истязать жизнь? Если это так называется.
Она почти уснула, когда рядом на тумбочке зазвонил телефон. Она не шевельнулась. Она никогда не отвечает. Ей сюда может звонить только он. Ей это безразлично. Прошло то время, когда она горела и дрожала от высокой температуры и боли. Когда смотрела на принесенные им шприцы, ампулы, бутылочки с препаратами и думала, что сможет что-то вонзить ему в висок или сердце и убить не столько силой удара, сколько силой ненависти. Сейчас ей все равно. Пусть он остается на той земле, на которой не будет ее. Засыпая, она вдруг вспомнила стихи, которые кто-то ей прочитал. Очень давно. До всего.
Я придумал это, глядя на твои
Косы – кольца огневеющей змеи,
На твои зеленоватые глаза,
Как персидская больная бирюза.
Это стихи Гумилева. Тогда это очень подходило Свете. Она была красивой. Кто это ей читал? Она забыла. Все настолько перепуталось, что ей кажется, будто это он, ее убийца, это читал… Она спит.
Глава 4
Серая «Тойота» проехала по безлюдной деревенской улице, потом протряслась по колдобинам большого холма – так утрамбовалась под колесами весенняя грязь, только теперь колдобины покрыты зеленой травой и листьями подорожника. За холмом – чахлые деревья и уже не дорога, а неровные тропинки, бурьян, несколько полуразвалившихся заброшенных домов, потом – новый высокий бетонный забор, обитый жестью. Он вышел из машины, открыл своим ключом очень серьезный замок на воротах, вернулся, загнал машину во двор, закрыл ворота изнутри. Не на задвижку, которая была, а опять на замок. К совсем новому, почти игрушечному щитовому домику он шел медленно, как будто к его большим, тяжелым ногам подвесили гири, а небольшие пакеты в крупных руках оттянули массивные плечи. И лицо у него было крупное и неподвижное, как высеченное из камня. В школе девчонки дразнили его «кирпичом». Потом он понял, что нравится женщинам. Невыразительность его лица казалась им мужественностью и силой. У порога дома он поставил на ступеньку пакеты, достал ключ от входной двери. Перед тем как открыть, он всегда медлил. Его лицо, как всегда, ничего не выражало, а сердце начинало колотиться так, что казалось, он слышит этот стук. То был панический страх. Он начинался у этого порога уже столько дней. Он боялся, что войдет, а ее там нет – как-то выбралась. Он боялся, что войдет, а она мертвая. Он просто ее боялся.
Он достал носовой платок и вытер взмокший лоб. Невозможно поверить, что он попал в такой переплет. Он, Андрей Панин, который самому себе казался абсолютно простым, прямолинейным, может, даже туповатым. Андрей, который собирался прожить прямую, понятную жизнь. Когда он понял, что она у него не получилась? Давно. Задолго до этой беды, из которой, похоже, ему уже не выкарабкаться. Он не знает как…
Андрей открыл дверь, тихо вошел, оставил пакеты в крошечном холле. Открыл дверь единственной комнаты, вошел и посмотрел на кровать. Она лежала лицом вниз, руки обнимали подушку. Он никогда не видел таких тонких, истощенных рук. Эта болезнь, это его преступление – что с этим делать?.. Толстые, короткие косички темного золота были нарядными, как у куклы. Она только здесь стала заплетать волосы в косы. А раньше, до всего, ходила по улицам, сверкая яркой пушистой головой, поражая цветом огромных глаз, каких не было больше ни у кого, легко улыбаясь при встрече, такая безмятежная, недостижимая… Он даже не смел ее тогда желать. Она была моложе его сына, он любовался ею много лет, смотрел, как она взрослеет. Цепенел, чувствуя себя грузным и старым исполином. Света так и осталась миниатюрной к своим девятнадцати…
Как? Она же не может лежать лицом вниз! Ей так больно! Она не шевелится уже минут десять! Это случилось!
Андрей бросился к кровати, легко перевернул ее на спину. Ох… Она открыла глаза. Посмотрела, как всегда, мрачно, но уже без ненависти и вопроса. Она теперь все для себя решает сама. Что-то решает…
– Ты спала лицом в подушку. Тебе уже не больно?
– Ничего.
– Но нужно все продолжать. Уколы, мази.
– Продолжай.
– Только сначала посмотри. Я принес творог, сметану, землянику, малину – все деревенское. Молоко…
– Не буду.
– Мне придется накормить тебя силой.
– Вот это не получится. Это тяжелее, чем то, что ты со мной сделал.
– Так. Можешь не начинать. Ты умрешь, если не будешь есть, понимаешь? Истощение на какой-то стадии необратимо.
– Неужели? Я давно уже на этой стадии. И все никак…
– Ты мне мстишь? Вот так? Хочешь умереть? Отомсти иначе. Рядом с тобой телефон. Позвони, пусть меня возьмут. А тебя отвезут в больницу. Мне будет легче в тюрьме. Или не легче. Но ты меня больше никогда не увидишь, а тебя вылечат. Я совершил тогда глупость. Не хочу объяснять, ты же мне не поверишь. Так больше невозможно! Что будет, если я, например, попаду в ДТП? Я отказываюсь от экспедиций. Меня выгонят с работы. Никто ведь тебя здесь не найдет, сама ты никуда не доедешь. Разреши мне все рассказать твоим родителям хотя бы! Их пожалей!
– Если ты это сделаешь, я убью себя тут же.
– Почему?
– Такой меня не увидит никто, я же говорила. А другой я уже не стану.
Андрей сел на краешек кровати, сжал голову руками. Глухо сказал:
– Допустим, я подонок. Но ты – маленькая, жестокая дрянь. Тебе никого не жалко, даже родителей.
– Вот ты и пожалей их, раз ты такой добрый. Меня нет – и все.
Он молча встал, пошел в ванную, долго мыл руки, потом принес пакет с лекарствами, разложил на тумбочке. Он уже работал над ее лицом, как опытный медбрат. Столько материала перелопатил в Интернете, со столькими врачами заходил проконсультироваться якобы по поводу родственницы в другом городе. Выбирал из выписанных лекарств то, что подходит, научился делать уколы. Сначала, когда челюсть была явно сломана, сам придумывал способы ее фиксировать. Раны, к счастью, были только на мягких тканях, отеки на скулах и под глазами. Пока лицо является сплошной гематомой, увидеть изменения после лечения, разумеется, трудно. Ему уже по ночам снятся приключения коллагена: отложение, синтез, деградация… Конечно, хирург бы сказал, что нужна трансплантация. Но она не поедет к хирургу, и он ее туда не повезет. Это невозможно в их ситуации. А обычный врач-«многостаночник», который ездил с ними на съемки много лет и какие только травмы не лечил актерам в походных условиях, сказал, когда он поведал об одной «родственнице», которую избили:
– Девятнадцать лет? Кости в основном целы? Послушай меня, потому что я зарабатываю меньше, чем пластические хирурги. Никаких заплаток! Это всю ее жизнь будут проблемные места. С возрастом начнут выделяться по цвету. Отторжения бывают очень часто. И вообще, люди сильно преувеличивают опасность повреждений на лице, особенно женщины. Нужно просто исключать инфекции и тормозить стягивание. И кожа возродится, как новая. А может, и нет… – завершил он, как всегда, загадочно.
Что-то получилось: она же спала на лице без боли. Если бы она еще ела… Собственно, ее голодовка назло ему и тормозила это пресловутое стягивание. Просто без еды не живут! Он уже дошел до полной маниакальности. Отмечал уровень молока в кувшине. Пересчитывал количество ягод на тарелке. Да, она делает в день пару глотков, не больше. Съедает пару ягод. Состояние настолько критическое, что она может его не пугать суицидом. Она и так уходит. И не из-за того, что случилось, а от голода.
Андрей вышел в кухню, помыл немного малины, смешал в глубокой плошке со сметаной, добавил свежайшего творога. Когда-то так делала его бабушка. И вот какой он вымахал. Вернулся к ней, она посмотрела на его руки и повернулась спиной. Он поставил плошку на тумбочку, встал перед кроватью на колени. Он не посмел до нее дотронуться. Просто хотел сказать, что умоляет ее… Но мольба в слова не вылилась. Сжала ему горло и грудь, он не смог выразить отчаяние перед человеком, который считает его самым страшным врагом. Дыхание вдруг прорвалось стоном.
Светлана медленно повернулась. Ее тонкие брови удивленно поднялись. Этот огромный, страшный зверь, стоя на коленях, дрожал и давился сухими рыданиями. Поймав ее взгляд, он вскочил и махнул рукой: «Да что я, в самом деле…» Он выбежал из дома, Светлана услышала звук мотора, затем он закрыл ворота на замок. Она приподнялась и вдруг взяла в руки плошку с приготовленной смесью. Вдохнула чудесный запах. Впервые захотела есть. Набрала немного в ложку, сначала просто лизнула, осторожно проглотила. Затем медленно и с мучительным наслаждением съела все. Как странно, что у такого изуродованного, униженного, растоптанного существа могут сохраниться простые радости. Кажется, одну из них она сейчас испытала.
Андрей ничего не видел перед собой. Мысли были самые чудовищные. Например, где ее похоронить и что потом делать… Когда зазвонил телефон, он не собирался отвечать, но взглянул на номер и не поверил своим глазам.
– Да, Света.
– Я съела то, что ты приготовил. Спасибо.
Глава 5
Надежда, статная, высокая, элегантная и нарядная в любой одежде, даже для работы в саду, что-то подкапывала, поливала, внимательно и нежно, как живое существо, осматривала каждую розу. Андрей шел к ней по дорожке и думал о том, что цветы она любит гораздо больше, чем людей. Чем самых близких людей – его и даже сына. Собственно, вопрос с ним давно закрыт. О любви нет и речи. Есть к тому же полное ощущение, будто Игорь ей тоже в лучшем случае безразличен из-за того, что он его, Андрея, сын. Возможно ли это – мстить единственному сыну за то, что они с мужем разлюбили друг друга? Да нет, наверное, все проще. Пока ребенок был маленьким, прелестным, забавным, он тоже был как цветок. Доставлял только приятные эмоции. Взрослый и сложный парень слишком выпадает из рамок ее незыблемых представлений. Ей нужен идеальный мир, синтетически безупречная семья, чистые, прозрачные, управляемые муж и сын. И она бы любила их, как букет роз. Он всегда чувствовал по отношению к ней раздражение и вину. Вину, вызванную раздражением. Это давно стало у Андрея тяжелым комплексом. Из-за него он контролировал даже свои мысли о жене. И очень редко, лишь в минуты отчаяния, позволял говорить самому себе очевидную, скорее всего, вещь: Надино стремление к идеалу и порядку – на самом деле очень упрощенный, точнее, примитивный внутренний мир. Андрей и себя считал очень простым, но не настолько…
Он подошел к ней, она кивнула: «Сейчас закончу. Ужин готов» – и продолжила работу в том же темпе. Он сел на скамейку и стал наблюдать за ней. Ему казалось, что она почти не изменилась с тех студенческих пор. Она училась на актерском факультете. Приняли, конечно, из-за внешности. Но уже в институте стало ясно, что актрисы в ней нет. Она могла быть только собой, а это для кино интересно лишь в исключительных случаях. Надя таким не была. Она просто была самой красивой. Золотистые локоны, большие темно-карие глаза, длинные черные ресницы. Игорь – в нее, тоже раскрашен природой, как райская птица. Надежда всегда привлекала внимание необычным сочетанием цвета глаз и волос, элегантностью и хорошим вкусом. Вот только камера ее не любила. Когда снимали студенческий фильм, какую-то экранизацию, оператор сказал Андрею, который и тогда был помощником, что Надя похожа на манекен и с этим ничего не поделаешь.
Андрей закурил, чувствуя себя совершенно изможденным, как после недели бессонных съемок. А сердце… Оно замирало и счастливо вздрагивало. У него тайный праздник из-за этого звонка: «Я поела. Спасибо». Но он не умеет выражать радость, ему не с кем ее разделить. Всегда было не с кем. Он родился и был воспитан в нормальной семье, женился на правильной женщине, но делиться переживаниями вообще не умел. А тут… Кому расскажешь о своем преступлении, о своих комплексах и страданиях, о том, что попал в капкан? И вдруг стало легче. Никому, конечно, не расскажешь, но он смотрел на Надю, освещенную заходящим солнцем, и, наверное, впервые за всю совместную жизнь остро ее жалел. И она ни с кем не поделится, и она в капкане обманутых надежд. Она могла выбрать любого мужчину, а выбрала его, потому что ее не интересовали ни богатство, ни нужные связи, в результате которых она могла бы за месяц стать самой востребованной актрисой. Надя придумала себе роль невесты, а затем жены честного, простого, навеки надежного человека. Если бы их двоих поставили в один кадр, это был бы очень точный режиссерский и операторский выбор. Он – мужественный, тяжелый и устойчивый, как скала, и она – прекрасная, как экзотический цветок. Таким кадром и было их свадебное фото. А выбор Нади по жизни оказался ошибкой. И его благодарность ей за этот выбор тоже была ошибкой. Причем выяснилось это очень быстро. Но они оба твердо знали одно: семью нужно сохранить, тем более родился сын. Спроси сейчас у Игоря: доволен он, что они сохранили семью? Игорь бы очень смеялся. Спрашивал бы: «Что сохранили? У нас есть семья? Так она на сохранении, вот в чем дело…» Он умеет шутить, Игорь, хотя они испортили и его жизнь. Андрей даже не пытался запомнить диагноз, который придумали Надя с учителями, чтобы объяснить побеги Игоря из дома. Какой, к черту, диагноз! Он, в отличие от них обоих, человек легкий и яркий. Ему плохо с постоянно напряженными, скрытными, замороженными родителями.
– Пойдем? – подошла к Андрею Надежда, и он поймал ее быстрый, изучающий взгляд. Она постоянно ждет от него неприятностей, беды. Она даже не представляет себе, в какой степени это все есть.
Он пожалел о том, что не купил чего-то по дороге. А что он мог купить? Торт? Она не ест магазинную выпечку. Букет цветов? Смешно. Она только тем и занимается, что выращивает цветы и расставляет букеты. Они пошли к дому. Андрей умылся и переоделся, потом вошел на кухню-веранду, где уже был накрыт стол. Посередине – большое блюдо с очередным Надиным шедевром. Это она, кажется, называет «фондю». Очень вкусная мешанина из кусочков кальмара, крабов, курицы, макарон – красивых бабочек, все это залито горячим растопленным сыром. Надя никогда не следовала прочитанным рецептам в точности. Она понимала суть блюда, а все остальное придумывала сама. Андрей вдохнул чудесный запах, подошел к бару и достал бутылку красного вина. Поставил на стол два бокала, разлил, сказал:
– Надя, а давай выпьем ни за что? Просто так. Вечер хороший. Еда вкусная. Тихо так и красиво у нас.
Надежда молча и медленно выпила свой бокал, поставила его на стол. Посмотрела на него как будто с доброй улыбкой. Спросила тихо и вкрадчиво:
– У тебя хороший вечер? Ты хочешь его со мной отпраздновать? Рада, что тебе нравится моя еда. Хотя сегодня ты и так похож на сытого кота. Что-то выгорело? Что-то получилось? А я думала, ты так и будешь тупо безутешным после пропажи этой маленькой вертихвостки. Другая подвернулась?
– Какой бред ты постоянно несешь, – постарался не повышать голоса Андрей. – Конечно, я подавлен из-за того, что пропала девушка, которую мы с тобой оба знаем с ее детства. Так же, как потрясены все остальные соседи. Я имею в виду адекватных людей. Есть идиоты, которые радуются любому горю. Но все же это не наше горе. Что поделаешь. Я надеюсь, что Светлана найдется. А насчет другой… – У него резко обозначились скулы. – Ты в своем уме? Я никогда тебе не изменял! И если бы ты была полноценной женщиной, ты бы это чувствовала. Но ты – манекен из пенопласта. Правильно мне говорил Коля – оператор на первом студенческом фильме.
Она заставила себя сесть, отбросив одеяло, нащупать ногами, не глядя, комнатные тапки, потому что смотреть на то, что осталось от ее ног, невозможно. Она удивляется, что способна ими ходить, этими косточками, обтянутыми кожей. Все-таки решилась, встала и пошла в маленькую ванную. Включила бак-обогреватель, медленно почистила зубы – это было еще больно, но не так, как раньше. Стянула большую мужскую майку, которая скрывала ее тело полностью, расплела косы, встала под душ. Ей удалось вымыть голову, помыться, ни разу не взглянув на свое тело. Но она теряла сознание от усталости. Выбралась из ванны с трудом. Вытиралась из последних сил. Вернулась в комнату, села на кровать, взяла с тумбочки гребенку с редкими зубьями – ее волосы трудно поддавались щеткам – и причесалась. Опять заплела косички, стянула резинками. Откинулась на спинку деревянной кровати, отдохнула, собиралась уже влезть под одеяло, но тут вкрадчивый солнечный луч вдруг осветил деревянный овал на столе у окна. Это было перевернутое зеркало.
На это понадобилось, наверное, полдня. Светлана остановила часы, поэтому не знала, сколько времени прошло. Но она сделала, наверное, двадцать подходов к этому зеркалу и возвращалась ни с чем. Точнее, с твердым желанием спрятаться под одеяло. И все-таки она сделала это. Никому не расскажешь, какое это невероятное преодоление – просто посмотреть на себя в зеркало. Первый раз. После всего.
Это был ужас – то, что она увидела. Она пошатнулась и чуть не выронила довольно тяжелое зеркало из рук. Раны и шагреневая кожа в глубоких морщинах – все, что осталось от ее лица. Она уже не помнила, какой была раньше. Только огромные глаза удивительного орехового цвета с зелеными искрами, которые освещали радужку, как драгоценный камень, – только они были ей знакомы. Она смотрела, искала в них ответ. Больше ей советоваться не с кем. И глаза мрачно говорили: да, можно только умереть. Все кончено. Невыносимые страдания не до конца раздавленной бабочки не нужны ей и не видны миру. Никто ничего не заметил и никогда не узнает. Что ее, живую, уже убили, а она никак не придумает, как прекратить эти муки.
Светлана положила зеркало, опять деревянной поверхностью вверх, добрела до кровати, задыхаясь, стараясь не дышать глубоко – так болела грудь. Все. Наконец она лежит, и мысли тонут в тяжелом, вязком сне. Все в тысячный или миллионный раз повторится, потом перейдет в полный провал, который хорош уже потому, что это остановит бесконечное решение одной и той же задачи: как все это прекратить? Как умереть бессильному, беспомощному человеку, которого зачем-то продолжает истязать жизнь? Если это так называется.
Она почти уснула, когда рядом на тумбочке зазвонил телефон. Она не шевельнулась. Она никогда не отвечает. Ей сюда может звонить только он. Ей это безразлично. Прошло то время, когда она горела и дрожала от высокой температуры и боли. Когда смотрела на принесенные им шприцы, ампулы, бутылочки с препаратами и думала, что сможет что-то вонзить ему в висок или сердце и убить не столько силой удара, сколько силой ненависти. Сейчас ей все равно. Пусть он остается на той земле, на которой не будет ее. Засыпая, она вдруг вспомнила стихи, которые кто-то ей прочитал. Очень давно. До всего.
Я придумал это, глядя на твои
Косы – кольца огневеющей змеи,
На твои зеленоватые глаза,
Как персидская больная бирюза.
Это стихи Гумилева. Тогда это очень подходило Свете. Она была красивой. Кто это ей читал? Она забыла. Все настолько перепуталось, что ей кажется, будто это он, ее убийца, это читал… Она спит.
Глава 4
Серая «Тойота» проехала по безлюдной деревенской улице, потом протряслась по колдобинам большого холма – так утрамбовалась под колесами весенняя грязь, только теперь колдобины покрыты зеленой травой и листьями подорожника. За холмом – чахлые деревья и уже не дорога, а неровные тропинки, бурьян, несколько полуразвалившихся заброшенных домов, потом – новый высокий бетонный забор, обитый жестью. Он вышел из машины, открыл своим ключом очень серьезный замок на воротах, вернулся, загнал машину во двор, закрыл ворота изнутри. Не на задвижку, которая была, а опять на замок. К совсем новому, почти игрушечному щитовому домику он шел медленно, как будто к его большим, тяжелым ногам подвесили гири, а небольшие пакеты в крупных руках оттянули массивные плечи. И лицо у него было крупное и неподвижное, как высеченное из камня. В школе девчонки дразнили его «кирпичом». Потом он понял, что нравится женщинам. Невыразительность его лица казалась им мужественностью и силой. У порога дома он поставил на ступеньку пакеты, достал ключ от входной двери. Перед тем как открыть, он всегда медлил. Его лицо, как всегда, ничего не выражало, а сердце начинало колотиться так, что казалось, он слышит этот стук. То был панический страх. Он начинался у этого порога уже столько дней. Он боялся, что войдет, а ее там нет – как-то выбралась. Он боялся, что войдет, а она мертвая. Он просто ее боялся.
Он достал носовой платок и вытер взмокший лоб. Невозможно поверить, что он попал в такой переплет. Он, Андрей Панин, который самому себе казался абсолютно простым, прямолинейным, может, даже туповатым. Андрей, который собирался прожить прямую, понятную жизнь. Когда он понял, что она у него не получилась? Давно. Задолго до этой беды, из которой, похоже, ему уже не выкарабкаться. Он не знает как…
Андрей открыл дверь, тихо вошел, оставил пакеты в крошечном холле. Открыл дверь единственной комнаты, вошел и посмотрел на кровать. Она лежала лицом вниз, руки обнимали подушку. Он никогда не видел таких тонких, истощенных рук. Эта болезнь, это его преступление – что с этим делать?.. Толстые, короткие косички темного золота были нарядными, как у куклы. Она только здесь стала заплетать волосы в косы. А раньше, до всего, ходила по улицам, сверкая яркой пушистой головой, поражая цветом огромных глаз, каких не было больше ни у кого, легко улыбаясь при встрече, такая безмятежная, недостижимая… Он даже не смел ее тогда желать. Она была моложе его сына, он любовался ею много лет, смотрел, как она взрослеет. Цепенел, чувствуя себя грузным и старым исполином. Света так и осталась миниатюрной к своим девятнадцати…
Как? Она же не может лежать лицом вниз! Ей так больно! Она не шевелится уже минут десять! Это случилось!
Андрей бросился к кровати, легко перевернул ее на спину. Ох… Она открыла глаза. Посмотрела, как всегда, мрачно, но уже без ненависти и вопроса. Она теперь все для себя решает сама. Что-то решает…
– Ты спала лицом в подушку. Тебе уже не больно?
– Ничего.
– Но нужно все продолжать. Уколы, мази.
– Продолжай.
– Только сначала посмотри. Я принес творог, сметану, землянику, малину – все деревенское. Молоко…
– Не буду.
– Мне придется накормить тебя силой.
– Вот это не получится. Это тяжелее, чем то, что ты со мной сделал.
– Так. Можешь не начинать. Ты умрешь, если не будешь есть, понимаешь? Истощение на какой-то стадии необратимо.
– Неужели? Я давно уже на этой стадии. И все никак…
– Ты мне мстишь? Вот так? Хочешь умереть? Отомсти иначе. Рядом с тобой телефон. Позвони, пусть меня возьмут. А тебя отвезут в больницу. Мне будет легче в тюрьме. Или не легче. Но ты меня больше никогда не увидишь, а тебя вылечат. Я совершил тогда глупость. Не хочу объяснять, ты же мне не поверишь. Так больше невозможно! Что будет, если я, например, попаду в ДТП? Я отказываюсь от экспедиций. Меня выгонят с работы. Никто ведь тебя здесь не найдет, сама ты никуда не доедешь. Разреши мне все рассказать твоим родителям хотя бы! Их пожалей!
– Если ты это сделаешь, я убью себя тут же.
– Почему?
– Такой меня не увидит никто, я же говорила. А другой я уже не стану.
Андрей сел на краешек кровати, сжал голову руками. Глухо сказал:
– Допустим, я подонок. Но ты – маленькая, жестокая дрянь. Тебе никого не жалко, даже родителей.
– Вот ты и пожалей их, раз ты такой добрый. Меня нет – и все.
Он молча встал, пошел в ванную, долго мыл руки, потом принес пакет с лекарствами, разложил на тумбочке. Он уже работал над ее лицом, как опытный медбрат. Столько материала перелопатил в Интернете, со столькими врачами заходил проконсультироваться якобы по поводу родственницы в другом городе. Выбирал из выписанных лекарств то, что подходит, научился делать уколы. Сначала, когда челюсть была явно сломана, сам придумывал способы ее фиксировать. Раны, к счастью, были только на мягких тканях, отеки на скулах и под глазами. Пока лицо является сплошной гематомой, увидеть изменения после лечения, разумеется, трудно. Ему уже по ночам снятся приключения коллагена: отложение, синтез, деградация… Конечно, хирург бы сказал, что нужна трансплантация. Но она не поедет к хирургу, и он ее туда не повезет. Это невозможно в их ситуации. А обычный врач-«многостаночник», который ездил с ними на съемки много лет и какие только травмы не лечил актерам в походных условиях, сказал, когда он поведал об одной «родственнице», которую избили:
– Девятнадцать лет? Кости в основном целы? Послушай меня, потому что я зарабатываю меньше, чем пластические хирурги. Никаких заплаток! Это всю ее жизнь будут проблемные места. С возрастом начнут выделяться по цвету. Отторжения бывают очень часто. И вообще, люди сильно преувеличивают опасность повреждений на лице, особенно женщины. Нужно просто исключать инфекции и тормозить стягивание. И кожа возродится, как новая. А может, и нет… – завершил он, как всегда, загадочно.
Что-то получилось: она же спала на лице без боли. Если бы она еще ела… Собственно, ее голодовка назло ему и тормозила это пресловутое стягивание. Просто без еды не живут! Он уже дошел до полной маниакальности. Отмечал уровень молока в кувшине. Пересчитывал количество ягод на тарелке. Да, она делает в день пару глотков, не больше. Съедает пару ягод. Состояние настолько критическое, что она может его не пугать суицидом. Она и так уходит. И не из-за того, что случилось, а от голода.
Андрей вышел в кухню, помыл немного малины, смешал в глубокой плошке со сметаной, добавил свежайшего творога. Когда-то так делала его бабушка. И вот какой он вымахал. Вернулся к ней, она посмотрела на его руки и повернулась спиной. Он поставил плошку на тумбочку, встал перед кроватью на колени. Он не посмел до нее дотронуться. Просто хотел сказать, что умоляет ее… Но мольба в слова не вылилась. Сжала ему горло и грудь, он не смог выразить отчаяние перед человеком, который считает его самым страшным врагом. Дыхание вдруг прорвалось стоном.
Светлана медленно повернулась. Ее тонкие брови удивленно поднялись. Этот огромный, страшный зверь, стоя на коленях, дрожал и давился сухими рыданиями. Поймав ее взгляд, он вскочил и махнул рукой: «Да что я, в самом деле…» Он выбежал из дома, Светлана услышала звук мотора, затем он закрыл ворота на замок. Она приподнялась и вдруг взяла в руки плошку с приготовленной смесью. Вдохнула чудесный запах. Впервые захотела есть. Набрала немного в ложку, сначала просто лизнула, осторожно проглотила. Затем медленно и с мучительным наслаждением съела все. Как странно, что у такого изуродованного, униженного, растоптанного существа могут сохраниться простые радости. Кажется, одну из них она сейчас испытала.
Андрей ничего не видел перед собой. Мысли были самые чудовищные. Например, где ее похоронить и что потом делать… Когда зазвонил телефон, он не собирался отвечать, но взглянул на номер и не поверил своим глазам.
– Да, Света.
– Я съела то, что ты приготовил. Спасибо.
Глава 5
Надежда, статная, высокая, элегантная и нарядная в любой одежде, даже для работы в саду, что-то подкапывала, поливала, внимательно и нежно, как живое существо, осматривала каждую розу. Андрей шел к ней по дорожке и думал о том, что цветы она любит гораздо больше, чем людей. Чем самых близких людей – его и даже сына. Собственно, вопрос с ним давно закрыт. О любви нет и речи. Есть к тому же полное ощущение, будто Игорь ей тоже в лучшем случае безразличен из-за того, что он его, Андрея, сын. Возможно ли это – мстить единственному сыну за то, что они с мужем разлюбили друг друга? Да нет, наверное, все проще. Пока ребенок был маленьким, прелестным, забавным, он тоже был как цветок. Доставлял только приятные эмоции. Взрослый и сложный парень слишком выпадает из рамок ее незыблемых представлений. Ей нужен идеальный мир, синтетически безупречная семья, чистые, прозрачные, управляемые муж и сын. И она бы любила их, как букет роз. Он всегда чувствовал по отношению к ней раздражение и вину. Вину, вызванную раздражением. Это давно стало у Андрея тяжелым комплексом. Из-за него он контролировал даже свои мысли о жене. И очень редко, лишь в минуты отчаяния, позволял говорить самому себе очевидную, скорее всего, вещь: Надино стремление к идеалу и порядку – на самом деле очень упрощенный, точнее, примитивный внутренний мир. Андрей и себя считал очень простым, но не настолько…
Он подошел к ней, она кивнула: «Сейчас закончу. Ужин готов» – и продолжила работу в том же темпе. Он сел на скамейку и стал наблюдать за ней. Ему казалось, что она почти не изменилась с тех студенческих пор. Она училась на актерском факультете. Приняли, конечно, из-за внешности. Но уже в институте стало ясно, что актрисы в ней нет. Она могла быть только собой, а это для кино интересно лишь в исключительных случаях. Надя таким не была. Она просто была самой красивой. Золотистые локоны, большие темно-карие глаза, длинные черные ресницы. Игорь – в нее, тоже раскрашен природой, как райская птица. Надежда всегда привлекала внимание необычным сочетанием цвета глаз и волос, элегантностью и хорошим вкусом. Вот только камера ее не любила. Когда снимали студенческий фильм, какую-то экранизацию, оператор сказал Андрею, который и тогда был помощником, что Надя похожа на манекен и с этим ничего не поделаешь.
Андрей закурил, чувствуя себя совершенно изможденным, как после недели бессонных съемок. А сердце… Оно замирало и счастливо вздрагивало. У него тайный праздник из-за этого звонка: «Я поела. Спасибо». Но он не умеет выражать радость, ему не с кем ее разделить. Всегда было не с кем. Он родился и был воспитан в нормальной семье, женился на правильной женщине, но делиться переживаниями вообще не умел. А тут… Кому расскажешь о своем преступлении, о своих комплексах и страданиях, о том, что попал в капкан? И вдруг стало легче. Никому, конечно, не расскажешь, но он смотрел на Надю, освещенную заходящим солнцем, и, наверное, впервые за всю совместную жизнь остро ее жалел. И она ни с кем не поделится, и она в капкане обманутых надежд. Она могла выбрать любого мужчину, а выбрала его, потому что ее не интересовали ни богатство, ни нужные связи, в результате которых она могла бы за месяц стать самой востребованной актрисой. Надя придумала себе роль невесты, а затем жены честного, простого, навеки надежного человека. Если бы их двоих поставили в один кадр, это был бы очень точный режиссерский и операторский выбор. Он – мужественный, тяжелый и устойчивый, как скала, и она – прекрасная, как экзотический цветок. Таким кадром и было их свадебное фото. А выбор Нади по жизни оказался ошибкой. И его благодарность ей за этот выбор тоже была ошибкой. Причем выяснилось это очень быстро. Но они оба твердо знали одно: семью нужно сохранить, тем более родился сын. Спроси сейчас у Игоря: доволен он, что они сохранили семью? Игорь бы очень смеялся. Спрашивал бы: «Что сохранили? У нас есть семья? Так она на сохранении, вот в чем дело…» Он умеет шутить, Игорь, хотя они испортили и его жизнь. Андрей даже не пытался запомнить диагноз, который придумали Надя с учителями, чтобы объяснить побеги Игоря из дома. Какой, к черту, диагноз! Он, в отличие от них обоих, человек легкий и яркий. Ему плохо с постоянно напряженными, скрытными, замороженными родителями.
– Пойдем? – подошла к Андрею Надежда, и он поймал ее быстрый, изучающий взгляд. Она постоянно ждет от него неприятностей, беды. Она даже не представляет себе, в какой степени это все есть.
Он пожалел о том, что не купил чего-то по дороге. А что он мог купить? Торт? Она не ест магазинную выпечку. Букет цветов? Смешно. Она только тем и занимается, что выращивает цветы и расставляет букеты. Они пошли к дому. Андрей умылся и переоделся, потом вошел на кухню-веранду, где уже был накрыт стол. Посередине – большое блюдо с очередным Надиным шедевром. Это она, кажется, называет «фондю». Очень вкусная мешанина из кусочков кальмара, крабов, курицы, макарон – красивых бабочек, все это залито горячим растопленным сыром. Надя никогда не следовала прочитанным рецептам в точности. Она понимала суть блюда, а все остальное придумывала сама. Андрей вдохнул чудесный запах, подошел к бару и достал бутылку красного вина. Поставил на стол два бокала, разлил, сказал:
– Надя, а давай выпьем ни за что? Просто так. Вечер хороший. Еда вкусная. Тихо так и красиво у нас.
Надежда молча и медленно выпила свой бокал, поставила его на стол. Посмотрела на него как будто с доброй улыбкой. Спросила тихо и вкрадчиво:
– У тебя хороший вечер? Ты хочешь его со мной отпраздновать? Рада, что тебе нравится моя еда. Хотя сегодня ты и так похож на сытого кота. Что-то выгорело? Что-то получилось? А я думала, ты так и будешь тупо безутешным после пропажи этой маленькой вертихвостки. Другая подвернулась?
– Какой бред ты постоянно несешь, – постарался не повышать голоса Андрей. – Конечно, я подавлен из-за того, что пропала девушка, которую мы с тобой оба знаем с ее детства. Так же, как потрясены все остальные соседи. Я имею в виду адекватных людей. Есть идиоты, которые радуются любому горю. Но все же это не наше горе. Что поделаешь. Я надеюсь, что Светлана найдется. А насчет другой… – У него резко обозначились скулы. – Ты в своем уме? Я никогда тебе не изменял! И если бы ты была полноценной женщиной, ты бы это чувствовала. Но ты – манекен из пенопласта. Правильно мне говорил Коля – оператор на первом студенческом фильме.