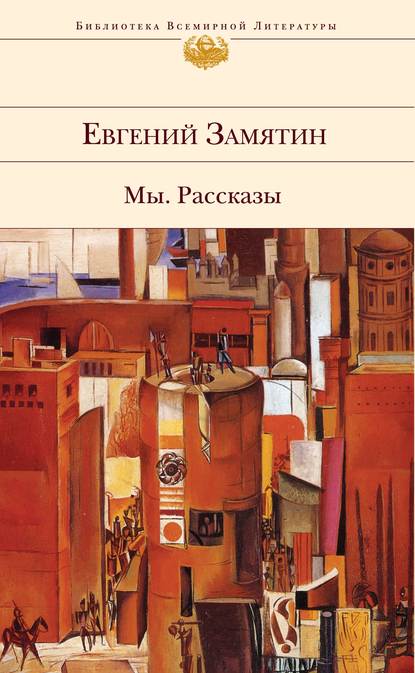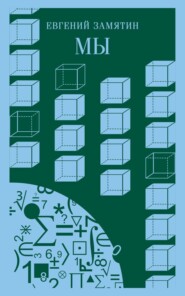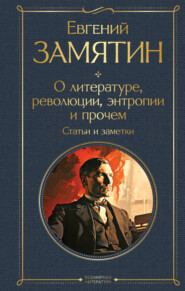По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Детская
Автор
Год написания книги
1920
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нет, это же все шутка, конечно… Это же – конечно… Все чаще, все торопливей Семен Семеныч умывается лапкой, и какие-то слова в голове – липкие, непослушные, непроворотные.
– Маруся, ну хоть вы… Ведь я же знаю… Ну ради Бога, скажите, не существует же в возможности действительность… я хочу – в действительности возможность…
– А-а, ничего не существует! Отстаньте! – морщится Маруся.
Окно выцветает, бледнеет, виден черный крест рамы: за окном начинается несуществующая действительность – день, обычный, нелепый, смешной, как все дни.
Откуда-то зайчонок-китаец. Нагнулся над запрокинутым венчиком Николая Мирликийского, трясет за плечо:
– Четыре часа. Велел будить. Вставай, четыре часа.
Голова в белом венчике покачнулась, прорезались глаза. Мутно обводит круг, потом – на себя: тужурка, оторванный погон, такой знакомый. Ну да: Семен Семеныч. И сердито зайчонку-китайцу:
– Ты кого это бу-будишь? Нет, ты кого будишь, а? Я тебе кого велел будить, а? – язык непослушный, вязкий.
– Тебя. Церковь надо.
– Нет, ты зачем меня будишь? Я тебе велел отца Николая, а ты гляди – ты кого? А?
«Детская» трясется от смеха. Зайчонок стоит растерянно: запутался. И испуганно, мутно, как дагерротипы в альбоме, глядит Семен Семеныч.
«Кто я? Я не существую. Ничего не существует».
На крышке стола перед ним, в сладком, липком кольце – муха все еще взвизгивает и тщетно пытается взлететь вверх.