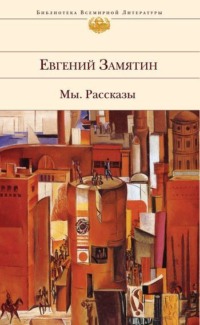Островитяне
Все это было совершенно так. Но Кембл непреложно, квадратно был уверен, что это не должно быть верно, и потому в голове была сущая толчея. И он уже не слышал слов О’Келли, а только безнадежно огребал рукой лоб: так медведь огребает облепивших пчел…
В приемной ожидала адвоката какая-то молодая леди, подстриженная по-мальчишечьи, курила папиросу.
– А-а, Диди! Вы, деточка, здесь давно? Миссис Диди Ллойд, наша клиентка. Развод… – адвокат обернулся к Кемблу, увидел его соображающий лоб – и опять понесся. – Я ей говорил: вступить сперва в пробный брак, но она непослушница… Не слыхали о пробном браке? Ну как же, ну как же: билль прошел в парламенте тридцать первого… ну да, тридцать первого марта.
Миссис Диди Ллойд смешливая – у ней дрожали губы. Кембл опять сбивался – верить или не верить, а О’Келли ужо раскладывал перед ним бумаги.
– …Остались сущие пустяки. Разберитесь-ка вот.
Кембл поклонился очень официально: мальчишеские повадки, и папироса миссис Диди Ллойд, и нога на ногу – были не в его вкусе. Он уселся за бумаги, а О’Келли расхаживал сзади, обсыпал пеплом жилет и вслушивался.
Бумага – это определенно. Туман в голове Кембла разбредался, по наезженному шоссе грузовик тащил кладь уверенно и быстро. О’Келли сиял и хлопал по плечу Кембла:
– Да вы молодчина! Я так и знал… Ломовичище вы эдакий…
Проходили клиенты. О’Келли уже позевывал: пора бы и обедать.
– Ну что ж: в ресторан? А оттуда – в театр? Нельзя? Ну, да полно…
Дома к обеду ждала леди Кембл. Но у О’Келли, как всегда, нашлись какие-то вывороченные и неожиданные доводы, выходило, что иначе нельзя, – и Кембл послушно шел.
После бутылки романеи в театре чувствовалось Кемблу: он очень высокий – выше всех – и легкий. Так редко чувствовал себя легким – очень это удобно и смешно – и всему на сцене покатывался, как пятилетний…
Впрочем, и все так же радостно смотрели и так же пятилетне смеялись. Было очень забавно: господин с приклеенным носом и толстая бабища танцевали тустеп, затем поссорились из-за найденного шиллинга, и господин с носом бил бабищу по щекам, а в оркестре бил барабан в такт. Потом девица, освещаемая попеременно зеленым и малиновым светом, играла на скрипке Моцарта. Потом какая-то в черном, тонкая, медленно плыла – танцевала в полумраке…
Один поворот – и Кемблу почудилось: узнал тонкое мальчишеское тело, подстриженные кудри… нет, не может быть! Но она уже была за экраном – экран ярко освещен – и ее тень постепенно сбрасывала с себя все, привычно-неспешно, чулки, подвязки, трико: был ее следующий танец – в красном.
– Миссис Диди Ллойд? – не отрываясь от экрана, спросил Кембл.
– Миссис… – передразнил О’Келли. – Ну, да конечно же – Диди.
О’Келли с любопытством, искоса, поглядывал на устремленного вперед Кембла: вот сейчас сдвинется грузовик-трактор и попрет, все прямо, через что попало…
Диди кончила красный танец – Кембл перевел наконец дух, и это вышло у него так шумно, из глубины, что сам испугался и огляделся кругом. Из ложи справа в темноте что-то на него блеснуло.
– Ну что, дружочек, понравилось, кажется? – ухмыльнулся О’Келли.
Уже одетая – в пальто и шляпе – Диди через проход пробиралась к ним. Села рядом с О’Келли и, смешливо захлебываясь, что-то ему рассказывала на ухо.
Было неловко, что теперь она – одетая, и потом показалось: слишком громко смеется. Кембл отодвинулся, выставив подбородок, – уселся прямой, непреложный и упрямо слушал концерт на странном инструменте: одна струна, натянутая на швабре.
Зажгли полный свет. Диди повернулась к Кемблу:
– Послушайте, Кембл, правду говорит О’Келли, что вы никогда – что вы никогда… – Взяла Кембла за руку и маленьким золотым карандашиком стала ему что-то писать на манжете.
«Что, если б моя мать…» – вспомнились Кемблу тончайшие извивающиеся губы, и он опять огляделся кругом, как будто леди Кембл могла быть здесь.
Но вместо леди Кембл – в ложе направо он увидел миссис Дьюли. Казалось, стекла ее пенсне блестели холодным блеском прямо на Кембла. Но это, очевидно, только казалось: блестя прямо на Кембла – миссис Дьюли не кланялась. Нет, очевидно, она не видала.
5. О фарфоровом мопсе
Фарфоровый мопс обитал в № 72, в меблированных комнатах миссис Аунти. Постояльцы тут менялись каждую неделю – всякий раз, как в «Эмпайр» приезжало новое revue. Всегда стояли облака табачного дыма; по ночам кто-то плескался и хохотал в ванной; до полудня были опущены шторы в спальнях. Но фарфоровый мопс Джонни нимало этим не смущался и с высоты каминной полки взирал на жизнь с всегдашней своей хладнокровной и знающей улыбкой. Мопс Джонни принадлежал Диди – и обратно: Диди принадлежала мопсу Джонни. Они были неразлучными друзьями. И тем досадней, что у Кембла как-то сразу и без всякой видимой причины установились неважные отношения с Джонни.
– Послушайте, Кембл, отчего вы не любите моего Джонни? Посмотрите, он такой прелестно-безобразный. И он такой верный. И с ним можно делать что угодно…
У Кембла на коленях разложены бумаги: очень трудная задача – уговорить Диди взять деньги, которые так любезно предлагаются ей мистером Ллойдом, бывшим мужем. У Кембла лоб собран мучительно.
– …Мистер О’Келли находил бы, что вам деньги надо взять. И я не понимаю, почему…
– Послушайте, Кембл, а вы не находите: Джонни похож на мистера О’Келли? Оба они одинаково безобразно-милые, и такие умные, и одинаково улыбаются. Ну вот сядьте сюда – сбоку – посмотрите?
Прямой, несгибающийся, Кембл, как Будда, усаживается на ковер и сердито смотрит на Джонни. Но это было верно: мопс был – О’Келли, две капли воды. Медленно култыхаясь и в самом смехе волоча какой-то груз, Кембл хохотал, раскатывался все больше, и уже Диди о другом – а его все не унять.
Оказывалось, что в Джонни есть нечто байроновское: в сущности – это до глубины разочарованное существо, потому и улыбается вечной улыбкой. Перед Джонни ставилась книжка в белом сафьяне – одна из немногих драгоценностей, которую Диди никогда не закладывала, – и Джонни читал, медленно и печально. Свет камина мерцал на мебели – лампы еще не зажжены; на полу белели забытые бумаги; отливал красным квадратный подбородок Кембла. Джонни читал…
Спохватывался Кембл, сердито вскакивал с ковра:
– Но все-таки должен же я сказать мистеру О’Келли, почему вы не хотите взять деньги?
Белая книжка летела в угол, черная черта бровей вдруг зачеркивала мальчишеское лицо Диди – Диди кричала:
– Потому что – я-я-я изменила мистеру Ллойду, поняли, нет? Почему изменила? Потому что была хорошая погода – и пожалуйста, убирайтесь с своими бумагами! Джонни в десять раз умнее, он никогда не спрашивает…
Наутро, в конторе, Кембл жаловался – с нависшей по-ребячьи, обиженной губой:
– Она просто не слушает… Все со своим мопсом…
О’Келли ухмылялся – как мопс:
– Эх вы… Кембл вы эдакий! Нынче же вечером волоките ее ко мне: мы с ней живо расправимся…
Вечер был очень тихий. Чинно и тихенько, радуя взор, стояли в палисадниках стриженные под нулевой номер деревья – ряды деревянных солдатиков. Вероятно, был какой-нибудь праздник или просто специальная служба для детей: церковь Сент-Инох звонила, по одному перебирала колокола в одном и том же порядке – все вертели и вертели какую-то ручку, – и чинными рядами шли стриженые дети в белых воротничках.
Кембл и Диди остановились – пропустить шествие. Прошел последний беловоротничковый ряд, и из-за угла показался викарий Дьюли, сопровождаемый миссис Дьюли и секретарем Почетных Звонарей Мак-Интошем. Викарий шел, как полководец, он вел беловоротничковую армию ко спасению математически-верным путем. Медленно перекладывал за спиной пальцы – отсчитывал что-то.
Кембл чувствовал себя немного неловко: он не был у Дьюли с того самого воскресенья, надо что-нибудь… надо подойти и сказать…
– Вы извините – я только на минутку… – Кембл оставил Диди у церковного заборчика и медленно заколыхался навстречу Дьюли.
Упористо расставив ноги и смущенно глядя на квадратные башмаки, Кембл извинялся: ужасно занят у адвоката, как-то совершенно не было времени… Хрустально поблескивало пенсне миссис Дьюли, викарий сиял золотыми зубами и поглядывал искоса в сторону Диди: она стояла у заборчика и поигрывала тросточкой Кембла.
– Великолепный вечер! – радостно засвидетельствовал Кембл. Страдальчески сморщился. Пауза…
Выручил Мак-Интош. Он был общепризнан человеком оригинальным и глубокомысленным. В эту минуту он внимательно смотрел себе под ноги:
– Я всегда думаю: какая великая вещь культура. Вот например: тротуар. Нет, вы вдумайтесь: тротуар!
И тотчас звонкий смех – все с ужасом обернулись: эта молодая особа с тросточкой смеялась. Эта молодая особа всегда была смешлива: теперь она опиралась на тросточку и тряслась, тряслась от смеха, трясла подстриженными кудряшками…
Дальше, в сущности, ничего не было особенного: просто миссис Дьюли обернулась и посмотрела на эту молодую особу – или, вернее, не на нее, а на церковный заборчик, к которому прислонилась особа. Миссис Дьюли посмотрела так, как будто эта особа была стеклянной, совершенно прозрачной.
Диди вспыхнула, что-то хотела сказать – что было бы уж, конечно, совершенно невероятно, – но только вздернула плечами и быстро куда-то пошла…
А затем миссис Дьюли любезно протянула Кемблу руку – показалось, ее рука дрожит, – или, может быть, это дрожала рука самого Кембла.
– До свидания, мистер Кембл. Все-таки надеемся скоро вас видеть… – и миссис Дьюли проследовала в церковь.
Это было неслыханно… у Кембла горели уши, во всю свою тяжелую прыть побежал за Диди, но она как провалилась сквозь землю: нигде ее не было…
Вечером, по окончании церковной службы, миссис Дьюли сидела с викарием в столовой и постукивала корешком книги:
– Ну что же – ваше принудительное спасение? Вы же видите, куда идет Кембл? На вашем месте я бы…
Викарий треугольником поднял брови: он положительно не узнавал миссис Дьюли, раньше она совершенно не интересовалась «Заветом Спасения». Викарий потирал руки: это хороший знак, это великолепно…
– Вы правы, дорогая: этим надо заняться. Конечно, конечно.
А в № 72 – камин покрывался пеплом, дергалось, трепыхалось под пеплом последнее тепло. На ковре лежали Диди и с нею фарфоровый мопс Джонни. Безобразная морда мопса была вся мокрая. На пороге стоял Кембл, страдальчески сморщившись: он пришел сказать Диди, что поведение ее странно, по меньшей мере. И вот – нету слов, или мешает что-то, спирается вот тут, в горле. В сущности, ведь это нелепо…
Кембл старался построить силлогизм.
6. Лицо культурного человека
Как известно, человек культурный должен, по возможности, не иметь лица. То есть не то чтобы совсем не иметь, а так: будто лицо, а будто и не лицо – чтобы не бросалось в глаза, как не бросается в глаза платье, сшитое у хорошего портного. Нечего и говорить, что лицо культурного человека должно быть совершенно такое же, как и у других (культурных), и уж, конечно, не должно меняться ни в каких случаях жизни.
Естественно, что тем же условиям должны удовлетворять и дома, и деревья, и улицы, и небо, и все прочее в мире, чтобы иметь честь называться культурными и порядочными. Поэтому, когда прохладные, серые дни прошли, и вдруг наступило лето, и солнце стало возмутительно-ярким – леди Кембл почувствовала себя шокированной.
– Это уж положительно что-то… Это Бог знает что! – черви леди Кембл пошевеливались, высовывались, но необузданное, некультурное солнце все так же оскалялось во весь рот. Тогда леди Кембл делала единственное, что ей оставалось: спускала все жалюзи и водворяла в комнатах свет более умеренный и приличный.
Леди Кембл с сыном занимала теперь три комнаты: две спальни наверху и столовую внизу, окнами на улицу. Все было теперь слава Богу. Этот случай с автомобилем леди Кембл понимала как явное милосердие божие. Нет, что там: порядочных людей Бог не оставит.
И вот – теперь все как полагается: и ковер, и камин, и над камином портрет покойного сэра Гарольда (тот же самый кембловский, квадратный подбородок), и столик красного дерева у окна, и на столике ваза для воскресных гвоздик. Во всех домах на левой стороне улицы видны были зеленые вазы, на правой – голубые. Леди Кембл жила на правой стороне, поэтому на столике у ней была голубая ваза.
По возможности, леди Кембл старалась восстановить тот распорядок, который был при покойном сэре Гарольде. С утра затягивалась в корсет, к обеду выходила в вечернем платье. Купила за пять шиллингов маленький медный гонг, и так как хозяйка-старушка звонить в гонг не умела, то леди Кембл всегда звонила сама: снимет гонг со стены в столовой, выйдет в коридор, позвонит – и опять в столовую. Пусть даже завтракает одна – Кембл в конторе – все равно позвонит: главное – порядок.
К несчастью, обед и завтрак подавал не лакей, а старушка миссис Тейлор, трясучая и древняя. И чтобы это выходило хоть мало-мальски прилично, леди Кембл стала старушку уговаривать: за обедом чтоб прислуживала в белых перчатках.
– И что это за причуды такие, господи! Моешь руки – моешь, и все им мало… – старушка обиделась и даже всплакнула, но за два лишних шиллинга в месяц – наконец согласилась.
Теперь было все в порядке – и леди Кембл позвала О’Келли обедать: пусть видит, что имеет дело не с кем-нибудь.
Было очень много хлопот. На столе стояли цветы и бутылки. Старушка Тейлор выстирала свои белые перчатки. И только О’Келли…
Трудно поверить – но О’Келли явился на обед… в визитке. Весь обед был испорчен. Черви леди Кембл развертывались, шевелились.
– Я так рада, мистер О’Келли, что вы по-домашнему. Впрочем, смокинг – при вашем складе лица…
О’Келли засмеялся:
– О, о своей наружности – я высокого мнения: она – исключительно-безобразна, но она – исключительна, а это все.
Коротенький, толстый – он запыхался от жары, вытирал лицо пестрым платком. Рыжие вихры растрепались, четыре руки его непрестанно мелькали, он капал на жилет соусом и болтал без останову. Да, в сущности, Уайльд тоже был некрасив, но он подчеркивал некрасивое – и все верили, что это красиво. И затем: подчеркнутая некрасивость – и подчеркнутая порочность – это должно дать гармонию. Красота – в гармонии, в стиле, пусть это будет гармония безобразного – или красивого, гармония порока – или добродетели…
Но тут О’Келли заметил: невидимая узда поддернула желтую голову леди Кембл, бледно-розовые черви зловеще шевелились и ползли. О’Келли запнулся – и бледно-розовые черви тоже остановились. Говорить в обществе об Уайльде! И если леди Кембл на этот раз пощадила О’Келли, то исключительно ради сына…
Старушка Тейлор трясущимися руками в белых перчатках поставила ликер и кофе. Об этом ликере леди Кембл поразмыслила довольно. Но в конце концов решила отложить починку своих туфель на месяц. Без ликера было нельзя никак, так же, как без гонга или перчаток миссис Тейлор.
Два раза леди Кембл подвигала О’Келли ликер – и два раза О’Келли подливал себе шотландское виски. Все это вместе – и пестрые вихры, и ликер, и мелькающие в воздухе руки О’Келли – раздражало миссис Кембл. Черви куснулись:
– Вы, однако, оригинал: первый раз вижу человека, который пьет с кофе виски.
«Оригинал» – для леди Кембл звучало так же, как «некультурный человек», но мистер О’Келли был, по-видимому, слишком толстокож. Он секунду весело молчал – он даже и молчал весело – и потом вслух подумал:
– …Вот в этакую жару, должно быть, хорошо в одной шотландской юбочке щеголять!
К слову вспомнил и рассказал: с приятелем шотландцем они ходили по Парижу – и парижские мальчишки в конце концов не выдержали, улучили момент и подняли шотландцу юбочку – посмотреть, есть ли под ней что-нибудь вроде штанов, или…
Леди Кембл больше не могла – не могла. Разгневанно встала, пошла к двери и позвала с собой кипенно-белую кошку Милли:
– Милли, пойдемте отсюда… Милли, вам здесь нечего делать – зачем вы сюда – ваше молоко в коридоре…
Но испорченная Милли, по-видимому, была еще не прочь послушать рассказы О’Келли: она мяукала и упиралась. Леди Кембл нагнулась – выскочили ключицы и лопатки и еще какие-то кости – весь каркас разломанного зонтика. С Милли под мышкой леди Кембл проследовала в дверь.
Величественная и страшная в своем мумийном декольте, она появилась вновь только тогда, когда О’Келли загромыхал в передней, разыскивая палку (которой не приносил). Вместе с О’Келли вышел и Кембл.
Небо было бледное, подобранное, вогнутое, какое бывает в сумерки после жарких дней. Кембл пожимался: не то от прохлады, но то от тех неминуемых разговоров – о порядочности и непорядочности, какие будут завтра с леди Кембл. Пожимался и все-таки шел вместе с О’Келли туда – в № 72. Главное, он был совершенно согласен с леди Кембл: в меблированных комнатах миссис Аунти – все было непорядочное, все было – не его, было шероховато и мешало, как мешал бы камень посреди асфальтовой джесмондской улицы, – и все-таки шел.
«Раз идет О’Келли… Надо же поддерживать с ним отношения…» – успокаивал себя Кембл.
В № 72, по обыкновению, горел камин. Диди сидела на ковре у огня: сушила, после мытья кудрявые, по-мальчишечьи подстриженные волосы. На полу были разбросаны листки какого-то письма – и над ними улыбался мопс Джонни.
О’Келли чуть не наступил на листки – наклонился и поднял.
– Не трогайте! – со злостью закричала Диди. – Говорю вам – не трогайте! Не смейте трогать! – брови сошлись над переносьем, исчезло мальчишечье лицо – было лицо женщины, опаленное темным огнем.
О’Келли сел на низенький пуф и затараторил:
– Нехорошо, нехорошо, деточка. Только что леди Кембл нам внушала, что лицо порядочного человека должно быть неизменно, как… как вечность, как британская конституция… И кстати: слыхали ли вы, что в парламент вносится билль, чтобы у всех британцев носы были одинаковой длины? Что же, единственный диссонанс, который, конечно, следует уничтожить. И тогда – одинаковые, как… как пуговицы, как автомобили «Форд», как десять тысяч нумеров «Таймса». Грандиозно – по меньшей мере…
Диди – не улыбнулась. Все так же держала листочек в руке, и все так же крепко, как сплетенные пальцы, – сдвинуты брови.
И не улыбнулся Кембл: что-то в нем накипало, накипало, било – и вот через край – и встал. Два шага к Диди – и спросил – тоном таким, какого не должно было быть:
– Что это за письмо такое? Отчего к нему уж и притронуться нельзя? Это – это… – говорил – и слушал себя с изумлением: не он – кто же?
И одну секунду слушала с изумлением Диди. Потом брови ее расцепились, она упала на ковер и захлебнулась смехом:
– О, Кембл, да кажется, вы… Джонни, мопсик, ты знаешь – Кембл-то… Кембл-то…
7. Руль испорчен
Наконец-то оно кончилось – дело о разводе, и на Диди никто теперь не имел прав, исключая, конечно, фарфорового мопса Джонни.
Событие праздновали втроем: О’Келли, Диди и Кембл. Обедали в отдельном кабинете, пили, О’Келли влезал на стул и произносил тосты, махал множеством рук, пестрело и кружилось в голове. Домой как-то не хотелось: решили поехать на бокс.
Такси летело, как сумасшедшее, – или так казалось. На поворотах кренило, и несколько раз Кембл обжегся об колено Диди. Такси летело…
– А знаете, – вспомнил Кембл, – мне уже который раз снится, будто я в автомобиле и руль испорчен. Через заборы, через что попало, и самое главное…
А что самое главное – рассказать не успел: входили уже в зал. Крутой веер скамей был полон до потолка. Опять было Кемблу тесно и жарко, обжигался, и будто все еще летело такси.
«Не надо так много пить…»
– Послушайте, Кембл, вы о чем думаете? – кричал О’Келли. – Вы слышите: сержант Смит, чемпион Англии. Вы понимаете: Смит! Да смотрите же, вы!
Из двух противоположных углов четырехугольного помоста они выходили медленным шагом. Смит – высокий, с крошечной светловолосой головой: так, какое-то маленькое, ненужное украшение к огромным плечам. И Борн из Джесмонда – с выдвинутой вперед челюстью: вид закоренелого убийцы.
– Браво, Борн, браво, Джесмонд! Сержант Смит, браво!
Топали, свистели, клокотали все двадцать рядов скамей, шевелилась и переливалась двадцать раз окрутившаяся змея – и вдруг застыла и вытянула голову: судья на помосте снял цилиндр.
Судья, поглядывая из-под седого козырька бровей, объявил условия:
– Леди и джентльмены! Двадцать кругов по три минуты и полминуты отдыха после каждого круга – согласно правилам маркиза Куинсбери…
Судья позвонил. Смит и Борн медленно сходились. Борн был в черных купальных панталонах, Смит – в голубых. Улыбнулись, пожали друг другу руки: показать, что все, что будет, – будет только забавой культурных и уважающих друг друга людей. И тотчас же черный Борн выпятил челюсть и закрутился около Смита.
– Так его, Джесмонд! Вот это панч! – закричали сверху, когда Борн отпечатал красное пятно на груди чемпиона Англии.
Двадцатиколечная змея обвивалась теснее, дышала чаще, и Кембл видел: шевелилась и вытягивалась вперед Диди – и он сам вытягивался, захваченный кольцами змеи.
Судья с козырьком бровей прозвонил перерыв. Черный и голубой – оба вытянулись на стульях, каждый в своем углу. Широко раскрыв рты – как выброшенные рыбы, спешили за полминуты наглотать побольше воздуху. Секунданты суетились, кропили им языки водой, махали полотенцами.
Полминуты прошло. Снова схватились. Смит улучил секунду – и тяжелый кулак попал Борну в нос, снизу вверх. Борн спрятал лицо под мышку к Смиту и закрутился вместе с ним – спасти лицо от ударов. Из носу у Борна шла кровь, окрашивала голубые панталоны Смита, крутились и барахтались два голых тела. И все судорожней вытягивалась змея – впитать запах крови, кругом топали и ревели нечленораздельное.
– …Поцелуй его, Борн, в подмышку, очень вкусное местечко! – выкрикнул пронзительный мальчишеский голос.
Диди – раскрасневшаяся, взбудораженная – дергала за рукав Кембла. Кембл оторвался от помоста и посмотрел на нее – с ноздрями еще жадно расширенными и квадратным, свирепо выдвинутым подбородком. Он был новый, и какой-то маленькой показалась себе Диди. И… что хотела спросить? – забыла…
– Да смотрите же! – крикнул О’Келли.
Кончалось. Качался от ударов Борн, и медленно, медленно ноги его мякли, таяли, как воск, – и он гулко рухнул.
Джесмонд был побит – Джесмонд вопил:
– Неверно! Он ударил, когда Борн уже падал…
– Долой Смита! Неправильно, мы видели!
Смит стоял, закинув маленькую головку, и улыбался: ждал, пока затихнут.
– …И еще улыбается! Что за наглость такая! – Диди горела и дрожала. Повернулась к Кемблу, чем-то колюче-нежным ужалила его локоть. – Была бы я, как вы, – сейчас же бы вот его пошла и побила…
Кембл на секунду посмотрел ей в глаза – и сбесившийся автомобиль вырвался и понес.
– Хорошо. Я иду, – он двинулся к трибуне.
Было это немыслимо, не должно было быть, Кембл сам не верил, но остановиться не мог: руль был испорчен, гудело, несло через что попало и… страшно или хорошо?
– Послушайте, не на самом же деле… Кембл, вы спятили? Держите же, держите его, О’Келли!
Но О’Келли только улыбался молча, как фарфоровый мопс Джонни.
Судья объявил, что мистер Смит любезно согласился на пять кругов с мистером Кемблом из Джесмонда. На помосте появилось громадное белое тулово Кембла – и Джесмонд восторженно заревел.
Мистер Кембл из Джесмонда был выше и тяжелее Смита, и все-таки с первого же круга стало ясно, что выходка его была совершенно безумной. Все так же улыбаясь, Смит наносил ему удары в бока и в грудь – только ухало гулко где-то в куполе. Но стоял Кембл очень крепко, упористо расставив столбяные ноги и упрямо выдвинув подбородок.
– Послушайте, О’Келли, ведь он же его убьет, ведь это же ужасно… – не отрывала глаз и бледнела Диди, а О’Келли только молча улыбался знающей улыбкой.
На третьем круге, весь в красных пятнах и в крови, Кембл еще держался. В тишине чей-то восторженный голос сверху крикнул:
– Ну и морда – прямо чугунная!
В зале фыркнули. Диди негодующе оглянулась, но уже опять была тишина: начинался четвертый круг. На этом круге, в самом же начале, Кембл упал.
Диди вскочила, с широко раскрытыми глазами. Судья поглядывал из-под седого козырька бровей и отсчитывал секунды: