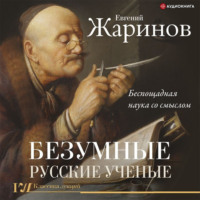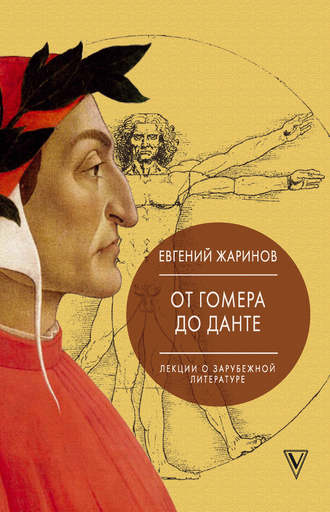
Лекции о зарубежной литературе. От Гомера до Данте
Итак, Телемак ищет отца. И он собирается отправиться к Нестору. Почему? Нестор – это тот из героев Троянской войны, который, вроде бы, последний видел Одиссея. Женихи же готовы на эти отчаянные поиски отреагировать по-своему. Они выставляют засаду для сына Пенелопы, чтобы убить его. И здесь в действие поэмы вмешивается богиня Афина Паллада. Одиссей ей очень дорог. Их отношения неясны, они вне сексуальности, вне привычных отношений мужчины и женщины. Здесь много загадок. Одиссей – не любовник, но любимчик богини, что и делает его исключительным. И даже несмотря на семилетнее существование её любимчика на острове Калипсо, Афина изо всех сил хочет вернуть Одиссея Телемаку и Пенелопе. Ей так важно соединить отца и сына. Мотивы Афины потрясающие. Богиня-воительница, не имеющая собственных детей, влюблённая в Одиссея и заботящаяся о его сыне, как о своём собственном ребёнке, она оберегает этого юношу от всех возможных опасностей и напастей. Ведь это сын Одиссея, значит часть его самого. И вот сцена совета богов на вершине Олимпа. Родилась там, внизу, в мире людей эта отчаянная сила притяжения отца и сына. И на этот вызов, как и на гнев Ахилла, нельзя не отреагировать. Вот оно воплощение божественного статуса человеческих эмоций! Наверное, по этой причине поэмы Гомера будут всегда привлекать к себе наше внимание. И неважно в данном случае, что герои Гомера не являются личностями, неважно, что все эти эмоции демонического происхождения. Впоследствии читатели других эпох об этом забудут. Главное здесь другое: твои чувства божественного происхождения. Значит, они обладают особой силой и ими нельзя пренебрегать. Они не просто дополняют картину мира, а открывают перед тобой какие-то невероятные горизонты познания. Не случайно Ницше в своей «Весёлой науке» приводит пример, взятый именно из «Одиссеи», пытаясь оправдать эмоционально-инстинктивный путь познания мира. Наша интуиция, наши чувства гораздо глубже нас. Боги Олимпа не могут просто оставить этот призыв. Почему? Потому что каждый из этих богов чей-то отец или мать и чей-то сын или дочь. Зов крови, или зов предков – основа основ любого архаического общества, и этот зов не утратил своей силы и по сей день.
«Мальчик хочет найти своего отца! Что будем делать?» – словно спрашивают друг у друга боги.
Афина отвечает: «Конечно, их надо соединить!»
Посейдон: «Ничего такого не произойдёт. Одиссей ослепил моего сына, циклопа Полифема, и я буду мстить до последнего! И моя любовь к Полифему такая же сильная, как любовь Одиссея к Телемаку». В данном случае я хочу обратить ваше внимание на то, как Гомер переводит обычную бытовую ситуацию в разряд вечности. Любой ребёнок из неполной семьи прекрасно поймёт это стремление обрести отца. И Гомер, в этом смысле, оказывается нам очень близок. Но если мы живём сейчас с вами в эпоху потери смысла, в эпоху цифровых технологий и постмодернистской парадигмы, когда в цифровом коде, придуманном ещё стариком Лейбницем в далёком XVII веке, может сойти с ума один пиксель, одна цифра, и картина мира сразу рассыплется на мелкие части, то в эпоху Гомера мир виделся как единое целое, когда даже материя наделялась душой и оживала наподобие мрамора, из которого ваяли статуи богов. Поэтому мир Гомера и не знал, что такое пошлость и что такое мелкие бытовые проблемы, например, проблема неполной семьи, когда сын не знает отца и живёт с неизбывной тоской по нему. У Гомера же всё приобретает космический характер. Сказитель укрупняет все наши привычные чувства, в результате мы по-другому начинаем оценивать самих себя. Читая Гомера, мы пробуждаем в себе высокое, героическое, к чему современная парадигма относится лишь с разрушительной иронией. Гомер же иронии не знает. Ему свойственен «гомерический смех», от которого сотрясаются даже горы. Гомер – это мощная прививка против всеразрушающей иронии современности. В своей поэме «Одиссея» он как бы очищает древнее и вечное понятие отца и сына.
Видите, какое противоречие? Схлестнулись две стихии, две отцовские любви к своим сыновьям: одна из них человеческая, а другая – божественная. Кто кого? Вот ещё одно подтверждение демонической природы наших чувств.
Боги приходят к следующему соглашению: они собираются послать Гермеса, чтобы он передал Одиссею божественный вердикт. Герою надо срочно сделать плот, сесть на него и отплыть в Итаку.
Посейдон подчиняется общему решению. Ему ничего не стоит уничтожить этот плот с Одиссеем. Спор двух отцов близится к трагической развязке. Афина собирается рискнуть. Одиссею ничего не остается делать, как принять вызов. Его зовет к себе отчаяние сына, родного Телемака. Вспомните Новый Завет и знаменитое моление о чаше Христа, его диалог с Богом-отцом. У христиан Голгофа, а у греческих язычников бушующий океан, стихия, которую надо преодолеть ради собственного сына. Напомню, что Новый Завет и четыре Евангелия написаны на диалекте койне, а не на арамейском языке. Писали эти тексты евреи, живущие в Греции. От этого в священном тексте мы найдём немало географических ошибок. Можно даже сказать, что Евангелие – это естественное продолжение всей греческой литературы. Именно этот текст христиан словно переплавит, переосмыслит по-новому всю архаическую страстность древнего эпоса и придаст этой страстности иной вектор.
И вот Одиссей отплывает на плоту навстречу стихии и тут начинается, может быть, одна из самых драматических частей всей поэмы. Посейдон принимает вызов. Со всей своей божественной мощью он обрушивается на маленького ничтожного смертного. Кажется, исход предрешён. Это бой двух отцов за своих сыновей. Один из них – бог, и он мстит за ослепление сына, а другой – смертный, ведомый в бой лишь своей божественной любовью к далёкому Телемаку, которого он почти не видел.
Четыре дня Одиссей работает топором и буравом, на пятый – плот спущен. Семнадцать дней плывёт он под парусом, правя по звёздам, на восемнадцатый разражается буря. Это Посейдон, увидя ускользающего от него героя, взмёл пучину четырьмя ветрами, бревна плота разлетелись, как солома. «Ах, зачем не погиб я под Троей! «– вскричал Одиссей. Помогли Одиссею две богини: добрая морская нимфа бросила ему волшебное покрывало, спасающее от потопления, а верная Афина уняла три ветра, оставив четвёртый нести его вплавь к ближнему берегу. Два дня и две ночи плывёт он, не смыкая глаз, а на третий волны выбрасывают его на сушу. Голый, усталый, беспомощный, он зарывается в кучу листьев и засыпает мёртвым сном.
Это была земля блаженных феаков, над которыми правил добрый царь Алкиной в высоком дворце: медные стены, золотые двери, шитые ткани на лавках, спелые плоды на ветках, вечное лето над садом. У царя была юная дочь Навсикая; ночью ей явилась Афина и сказала: «Скоро тебе замуж, а одежды твои не стираны; собери служанок, возьми колесницу, ступайте к морю, выстирайте платья». Выехали, выстирали, высушили, стали играть в мяч; мяч залетел в море, девушки громко вскрикнули, крик их разбудил Одиссея. Он поднимается из кустов, страшный, покрытый морскою засохшею тиной, и молит: «Нимфа ли ты или смертная, помоги: дай мне прикрыть наготу, укажи мне дорогу к людям, и да пошлют тебе боги доброго мужа». Он омывается, умащается, одевается, и Навсикая, любуясь, думает: «Ах, если бы дали мне боги такого мужа». Явно здесь не обошлось без божественного вмешательства Афины. Богиня, безусловно, участвует в чудесном преображении своего избранника, хитроумного Одиссея. Он идёт в город, входит к царю Алкиною, рассказывает ему о своей беде, но себя не называет; тронутый Алкиной обещает, что феакийские корабли отвезут его, куда он ни попросит.
Одиссей сидит на Алкиноевом пиру, а мудрый слепой певец Демодок развлекает пирующих песнями. «Спой о Троянской войне!» – просит Одиссей; и Демодок поёт об Одиссеевом деревянном коне и о взятии Трои. У Одиссея слезы на глазах. «Зачем ты плачешь? – говорит Алкиной. – Для того и посылают боги героям смерть, чтобы потомки пели им славу. Верно, у тебя пал под Троею кто-то из близких? «И тогда Одиссей открывается: «Я – Одиссей, сын Лаэрта, царь Итаки, маленькой, каменистой, но дорогой сердцу… «– и начинает рассказ о своих скитаниях. В рассказе этом – девять приключений.
Если говорить о структуре повествования этой знаменитой поэмы, то всё повествование разворачивается по двум параллельным линиям: линия Телемака на Итаке и линия Одиссея сначала на острове Калипсо, а затем во дворце Алкиноя. В заключительной части эти линии пересекутся для пущей драматизации действия. Сразу отметим, что в кинематографе этот приём повествования будет назван параллельным монтажом. Его изобретет Кулешов и Гриффит в самом начале XX века. Гомеровская архаика неожиданно станет вновь востребованной. Всё же основное действие поэмы будет передано не как прямое непосредственное участие в событии, а как рассказ Одиссея. То есть весь основной текст поэмы предстанет у нас в так называемом комментированном пересказе главного героя. Получится своеобразный современный мета-роман. В эпистемологии приставка «мета-» означает «о себе». В такой особенности повествования, которую мы встречаем в столь архаической тексте, многие современные исследователи видели чуть ли не предвестие современной романной формы, которая вся строится на саморефлексии. Неслучайно классикой, так называемой, внутренней эпопеи считается роман «Улисс» Джеймса Джойса. Но вот они эти девять приключений, которые даются в пересказе самого Одиссея и которые и составляют главное содержание всей поэмы.
Первое приключение – у лотофагов. Буря унесла Одиссеевы корабли из-под Трои на дальний юг, где растёт лотос – волшебный плод, отведав которого, человек забывает обо всем и не хочет в жизни ничего, кроме лотоса. Лотофаги угостили лотосом Одиссеевых спутников, и те забыли о родной Итаке и отказались плыть дальше. Силою их, плачущих, отвели на корабль, и пустились они в путь.
Второе приключение – у циклопов. Это были чудовищные великаны с одним глазом посреди лба; они пасли овец и коз и не знали вина. Главным среди них был Полифем, сын морского Посейдона. Одиссей с дюжиной товарищей забрёл в его пустую пещеру. Вечером пришёл Полифем, огромный, как гора, загнал в пещеру стадо, загородил выход глыбой, спросил: «Кто вы? «– «Странники, Зевс наш хранитель, мы просим помочь нам». – «Зевса я не боюсь!» – и циклоп схватил двоих, размозжил о стену, сожрал с костями и захрапел. Утром он ушёл со стадом, опять заваливши вход; и тут Одиссей придумал хитрость. Он с товарищами взял циклопову дубину, большую, как мачта, заострил, обжёг на огне, припрятал; а когда злодей пришёл и сожрал ещё двух товарищей, то поднёс ему вина, чтобы усыпить. Вино понравилось чудовищу. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Никто!» – ответил Одиссей. «За такое угощение я тебя, Никто, съем последним!» – и хмельной циклоп захрапел. Тут Одиссей со спутниками взяли дубину, подошли, раскачали ее и вонзили в единственный великанов глаз. Ослеплённый людоед взревел, сбежались другие циклопы: «Кто тебя обидел, Полифем?» – «Никто! «– «Ну, коли никто, то и шуметь нечего» – и разошлись. А чтобы выйти из пещеры, Одиссей привязал товарищей под брюхо циклоповым баранам, чтобы тот их не нащупал, и так вместе со стадом они покинули утром пещеру. Но, уже отплывая, Одиссей не стерпел и крикнул: «Вот тебе за обиду гостям казнь от меня, Одиссея с Итаки! «И циклоп яростно взмолился отцу своему Посейдону: «Не дай Одиссею доплыть до Итаки – а если уж так суждено, то пусть доплывёт нескоро, один, на чужом корабле!» И бог услышал его молитву.
И это станет причиной всех дальнейших бед Одиссея, что лишь ярче подчеркнет значение скрытого в тексте поэмы одного из основных архетипов всей мировой литературы и культуры – архетипа отца и сына.
Третье приключение – на острове бога ветров Эола. Бог послал им попутный ветер, а остальные завязал в кожаный мешок и дал Одиссею: «Доплывёшь – отпусти». Но когда уже виднелась Итака, усталый Одиссей заснул, а спутники его развязали мешок раньше времени; поднялся ураган, их примчало обратно к Эолу. «Значит, боги против тебя!» – гневно сказал Эол и отказался помогать ослушнику.
Четвёртое приключение – у лестригонов, диких великанов-людоедов. Они сбежались к берегу и обрушили огромные скалы на Одиссеевы корабли; из двенадцати судов погибло одиннадцать, Одиссей с немногими товарищами спасся на последнем.
Пятое приключение – у волшебницы Кирки, царицы Запада, всех пришельцев обращавшей в зверей. Одиссеевым посланцам она поднесла вина, мёда, сыра и муки с ядовитым зельем, и они обратились в свиней, а она загнала их в хлев. Спасся один и в ужасе рассказал об этом Одиссею; тот взял лук и пошёл на помощь товарищам, ни на что не надеясь.
Шестое приключение – самое страшное: спуск в царство мёртвых. Вход в него – на краю света, в стране вечной ночи. Души мёртвых в нём бесплотны, бесчувственны и бездумны, но, выпив жертвенной крови, обретают речь и разум. Эта часть поэмы потом будет повторена Вергилием в его «Энеиде», а в дальнейшем шестая песнь «Энеиды» вдохновит Данте Алигьери на написание «Божественной комедии». «Божественная Комедия» вдохновит Бальзака на создание своей «Человеческой Комедии», а Золя вслед за этим создаст свою эпопею. В России же Н.В. Гоголь напишет «Мёртвые души», ориентируясь во многом на Данте. Вот такая получится цепочка внутренних литературных связей, возникших лишь из одной части рассказа героя Одиссея о своих подвигах.
Седьмым приключением были Сирены – хищницы, обольстительным пением заманивающие мореходов на смерть. Одиссей перехитрил их: спутникам своим он заклеил уши воском, а себя велел привязать к мачте и не отпускать, несмотря ни на что. Так они проплыли мимо, невредимые, а Одиссей ещё и услышал пение, слаще которого нет. Этот рассказ о сиренах так поразит Фридриха Ницше, что в своей знаменитой работе «Весёлая наука» он вспомнит о нём и укажет на недостаточность только умственных форм познания мира. Философ призовёт привести в действие и чувства, и инстинкты, без чего целые области знания будут оставаться закрытыми. Философы традиционного типа, признающие лишь идеи, напоминают ему спутников Одиссея с заткнутыми ушами, дабы не слышать музыки жизни. Это обращение к эпизоду из поэмы «Одиссея», сделанное великим философом XX века, перевернёт в дальнейшем всё наше представление об окружающем мире.
Восьмым приключением был пролив между чудовищами Сциллой и Харибдой: Сцилла – о шести головах, каждая с тремя рядами зубов, и о двенадцати лапах; Харибда – об одной гортани, но такой, что одним глотком затягивает целый корабль. Одиссей предпочёл Сциллу Харибде – и был прав: она схватила с корабля и шестью ртами сожрала шестерых его товарищей, но корабль остался цел.
Девятым приключением был остров Солнца-Гелиоса, где паслись его священные стада – семь стад красных быков, семь стад белых баранов. Одиссей, памятуя завет Тиресия, взял с товарищей страшную клятву не касаться их; но дули противные ветры, корабль стоял, спутники изголодались и, когда Одиссей заснул, зарезали и съели лучших быков. Было страшно: содранные шкуры шевелились, и мясо на вертелах мычало. Солнце-Гелиос, который все видит, все слышит, все знает, взмолился Зевсу: «Накажи обидчиков, не то я сойду в подземное царство и буду светить среди мёртвых». И тогда, как стихли ветры и отплыл от берега корабль, Зевс поднял бурю, грянул молнией, корабль рассыпался, спутники потонули в водовороте, а Одиссей один на обломке бревна носился по морю девять дней, пока не выбросило его на берег острова Калипсо.
Так заканчивает Одиссей свою повесть.
Алкиной выполнил своё обещание, и Одиссей был благополучно доставлен на Итаку.
Он взошёл на феакийский корабль, погрузился в очарованный сон, а проснулся уже на туманном берегу Итаки. Здесь его встречает покровительница Афина. «Пришла пора для твоей хитрости, – говорит она, – таись, стерегись женихов и жди сына твоего Телемака!» Она касается его, и он делается неузнаваем: стар, лыс, нищ, с посохом и сумою. В этом виде идёт он в глубь острова просить приюта у старого доброго свинопаса Евмея. Евмею он рассказывает, будто родом он с Крита, воевал под Троей, знал Одиссея, плавал в Египет, попал в рабство, был у пиратов и еле спасся. Евмей зовёт его в хижину, сажает к очагу, угощает, горюет о пропавшем без вести Одиссее, жалуется на буйных женихов, жалеет царицу Пенелопу и царевича Телемака. На другой день приходит и сам Телемак, вернувшийся из своего странствия, – конечно, его тоже направила сюда сама Афина, Перед ним Афина возвращает Одиссею настоящий его облик, могучий и гордый. «Не бог ли ты?» – вопрошает Телемак. «Нет, я отец твой», – отвечает Одиссей, и они, обнявшись, плачут от счастья.
Близится конец. Телемак отправляется в город, во дворец; за ним бредут Евмей и Одиссей, снова в образе нищего. У дворцового порога совершается первое узнавание: дряхлый Одиссеев пёс, за двадцать лет не забывший голос хозяина, поднимает уши, из последних сил подползает к нему и умирает у его ног. Одиссей входит в дом, обходит горницу, просит подаяния у женихов, терпит насмешки и побои. Женихи стравливают его с другим нищим, моложе и крепче. Одиссей неожиданно для всех опрокидывает его одним ударом. Женихи хохочут: «Пусть тебе Зевс за это пошлёт, чего ты желаешь!» – и не знают, что Одиссей желает им скорой погибели. Пенелопа зовёт чужестранца к себе: не слышал ли он вестей об Одиссее? «Слышал, – говорит Одиссей, – он в недальнем краю и скоро прибудет». Пенелопе не верится, но она благодарна гостю. Она велит старой служанке омыть страннику перед сном его пыльные ноги, а самого его приглашает быть во дворце на завтрашнем пиру. И здесь совершается второе узнавание: служанка вносит таз, прикасается к ногам гостя и чувствует на голени шрам, какой был у Одиссея после охоты на кабана в его молодые годы. Руки ее задрожали, нога выскользнула: «Ты – Одиссей!» Одиссей зажимает ей рот: «Да, это я, но молчи – иначе погубишь все дело!»
Наступает последний день. Пенелопа созывает женихов в пиршественную горницу: «Вот лук моего погибшего Одиссея; кто натянет его и пустит стрелу сквозь двенадцать колец на двенадцати секирах в ряд, тот станет моим мужем!» Один за другим сто двадцать женихов примериваются к луку – ни единый не в силах даже натянуть тетиву. Они уже хотят отложить состязание до завтра – но тут встаёт Одиссей в своём нищем виде: «Дайте и мне попытать: ведь и я когда-то был сильным!» Женихи негодуют, но Телемак заступается за гостя: «Я – наследник этого лука, кому хочу – тому даю; а ты, мать, ступай к своим женским делам». Одиссей берётся за лук, легко сгибает его, звенит тетивой, стрела пролетает сквозь двенадцать колец и вонзается в стену. Зевс гремит громом над домом, Одиссей выпрямляется во весь богатырский рост, рядом с ним Телемак с мечом и копьём. «Нет, не разучился я стрелять: попробую теперь другую цель!» И вторая стрела поражает самого наглого и буйного из женихов. «А, вы думали, что мёртв Одиссей? Нет, он жив для правды и возмездия!» Женихи хватаются за мечи, Одиссей разит их стрелами, а когда кончаются стрелы – копьями, которые подносит верный Евмей. Женихи мечутся по палате, незримая Афина помрачает их ум и отводит их удары от Одиссея, они падают один за другим. Груда мёртвых тел громоздится посреди дома, верные рабы и рабыни толпятся вокруг и ликуют, видя господина.
Пенелопа ничего не слышала: Афина наслала на неё в ее тереме глубокий сон. Старая служанка бежит к ней с радостною вестью: Одиссей вернулся. Одиссей покарал женихов! Она не верит: нет, вчерашний нищий совсем не похож на Одиссея, каким он был двадцать лет назад; а женихов покарали, наверно, разгневанные боги. «Что ж, – говорит Одиссей, – если в царице такое недоброе сердце, пусть мне постелят постель одному». И тут совершается третье, главное узнавание. «Хорошо, – говорит Пенелопа служанке, – вынеси гостю в его покой постель из царской спальни». – «Что ты говоришь, женщина? – восклицает Одиссей, – эту постель не сдвинуть с места, вместо ножек у неё – пень масличного дерева, я сам когда-то сколотил ее на нем и приладил». И в ответ Пенелопа плачет от радости и бросается к мужу: это была тайная, им одним ведомая примета.
Это победа, но это ещё не мир. У павших женихов остались родичи, и они готовы мстить. Вооружённой толпой они идут на Одиссея, он выступает им навстречу с Телемаком и несколькими подручными. Уже гремят первые удары, проливается первая кровь, – но Зевсова воля кладёт конец затевающемуся раздору. Блещет молния, ударяя в землю между бойцами, грохочет гром, является Афина с громким криком: «…Крови не лейте напрасно и злую вражду прекратите!» – и устрашённые мстители отступают. И тогда: «Жертвой и клятвой скрепила союз меж царём и народом / Светлая дочь громовержца, богиня Афина Паллада».
Этими словами заканчивается «Одиссея».
Гесиод
Если Гомер – это отражение яркой героики, в которой нет и не может быть места ничему узкому, мещанскому, то Гесиод, создатель так называемого дидактического эпоса, наоборот, отличается весьма конкретной житейской направленностью своего творчества.
Дидактизм сочинений Гесиода был вызван потребностями времени. Это время – конец всей эпической эпохи, когда героические идеалы иссякли. Они утратили свою яркую непосредственность. Эти идеалы перешли в состояние скучного поучения, или дидактики. Здесь вспоминается известная сказка Салтыкова-Щедрина «Вяленая вобла»: «Воблу поймали, вычистили внутренности (только молоки для приплоду оставили) и вывесили на верёвочке на солнце: пускай провялится. Повисела вобла денёк-другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался. И стала вобла жить да поживать… Всё у меня лишнее выветрили, вычистили и вывялили, и буду я свою линию полегоньку до потихоньку вести!» Конечно, это сравнение с русским классиком можно воспринять как некое преувеличение: Гесиод всё-таки из другой породы и из другого времени. Как известно, всякое сравнение хромает. Хромает и наше. Но мы привели данный отрывок лишь для большей убедительности. Ясно одно, в эпоху Гесиода старые идеалы общины и племени, так возвеличенные Гомером, меркнут, они перестают волновать и объединять людей.
«Труды и дни»
В этой поэме Гесиод предстаёт перед нами во всей красе. Его лирический герой самый обычный средний крестьянин, живущий лишь «презренной пользой», а не героическими устремлениями своих предков. Вот как охарактеризовал этого лирического героя А.Ф. Лосев: «Словом, это типичный скупидом со своей моралью, возводимый обязательно к божественному авторитету, со своей, как мы теперь сказали бы, «мещанской идеологией», не идущей дальше устроения ближайших хозяйственных дел, и со всем ассортиментом добродетелей, когда здоровая, работящая и расчётливая хозяйка в качестве жены уже бесконечно превосходит по своей ценности, честности и красоте всех эпических Пентесилей, Медей, Навсикай и Андромах. Гесиод очень консервативен и по своему умственному горизонту весьма узок».
Стиль Гесиода – противоположность роскоши, многословию и широте гомеровского стиля. Он поражает своей сухостью и краткостью. Часто изложение сводится к простому перечислению имён и браков. Моралистика настолько скучна, что она производит очень монотонное и навязчивое впечатление.
Однако Гесиод может быть очень наблюдателен и рисует порой довольно живые картинки. Так, мы видим, что во время полевых работ хозяин кладет на рукоятку плуга руку. Эта натруженная рука невольно вызывает ассоциации с рукой животворящей, почти божественной. Вот кнут, который свистит над спинами быков, сзади идёт мальчик-раб и несёт мотыгу, как рука хозяина разбрасывает зерно во вспаханную землю. Невольно вспоминается поэтическая строчка из стихотворения Баратынского: «И вот ему несёт рука моя зародыши дубов, елей и сосен…» эта строчка, явно, перекликается с Гесиодом. Греческий поэт живописует суровую зиму в Беотии, когда земля покрывается коркой от жестоких морозов. Ветер ходит по лесам и равнинам, стонут деревья, дикие звери прячутся по норам и, сгорбившись от холода, люди спешат укрыться в тепло. Когда читаешь эти строки, то в голове неожиданно начинает звучать знаменитая тема Вивальди из «Времён года»: «Январь. Люди бегут и топают ногами». Летом же у Гесиода людей «опаляет зной». Завершивший свои работы крестьянин подставляет голову ветру и пристально смотрит в прозрачный источник.
«Теогония»
После пролога, посвящённого музам, в поэме идёт сухой и прозаический перечень сначала основных божеств, а потом браков богов со смертными женщинами. Вначале над миром царствует Хаос, Земля с Тартаром и Эрос, потом – Небо-Уран, Титаны, Зевс и олимпийцы; описана также борьба с Титанами и с Тифоном.
По Гесиоду, вся мировая история делится на пять периодов: золотой век, серебряный, медный, героический и железный. Это деление станет классическим. К нему прибегнет Сервантес в своём романе «Дон Кихот», А. Блок, который напишет» «Век девятнадцатый, железный, Воистину жестокий век!» и т. д. У Гесиода всё лучшее было в прошлом. Настоящее мрачно и уныло. Его творчество – это свидетельство бурного развала родовой общины, внутри которой не могло быть места для отдельно взятой личности со всеми её как высоким поэтическими устремлениями, так и низкими, житейскими, приземлёнными интересами. Такова и есть диалектическая, противоречивая природа личности. У Гесиода она лишь только зарождается и подобна той самой «твари скользкой» в «разросшихся хвощах», которая «ревела от сознания бессилья», «почуя на плечах ещё не появившиеся крылья». (Н. Гумилев). Но Гесиод – это первый исторически реальный поэт древней Греции.