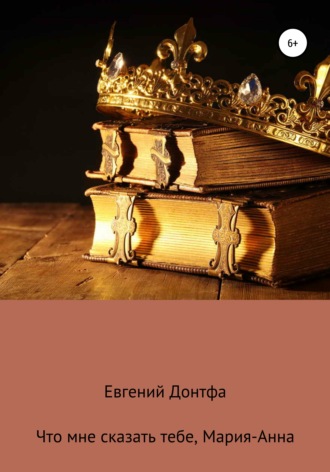
Что мне сказать тебе, Мария-Анна
Кое-как приведя себя в порядок и надев белье, она сказала:
– Будь добр, помоги надеть платье, которые ты так ловко с меня снял.
И он радостно бросился помогать.
Когда же он наконец ушел, прихватив свой грозный толедский клинок, Мария-Анна тяжело опустилась в кресло и закрыла глаза. "Этот мальчишка мог разрушить всё, но слава богу удовлетворился одной маленькой подачкой." Она невесело усмехнулась: "Правда вот в качестве подачки оказалась я сама".
Она еще недолго посидела и затем поднялась. После всего случившегося её решимость остаться королевой окрепла, а значит Гуго Либеру придется познакомиться с Хорхе Алонсо Родригесом, славным идальго из солнечной Эстремадуры.
Мария-Анна вызвала Ольмерика. Тот вошел в будуар.
Перед этим Мария-Анна потушила несколько масляных светильников в комнате, дабы затемнить помещение. Ей не хотелось, чтобы зоркий норманн увидел её слегка помятый внешний вид и возможно сделал из этого некоторые смелые выводы. Не то чтобы её сильно волновало, что там Ольмерик себе думает о её нравственности и целомудрии, но всё же конкретно это "приключение" с Верховным командором ей сейчас совсем не хотелось афишировать.
Она протянула ему сложенный лист бумаги с вопросами для Родригеса.
– Вот, передай это садовнику, – приказала Мария-Анна. – Скажи ему он может начинать. И, если нужно, помоги ему привязать нашего гостя к креслу.
60.
Мария-Анна стояла у окна и барабанила пальцами по стеклу. Ей было жутко не по себе. Что-то было не так. Неправильно. Она изо всех сил старалась не думать о Гуго Либере, Хорхе Родригесе и том что происходит где-то там в маленькой комнатке. Только не об этом. Её это не касается. Главное это Роберт. И главное к завтрашнему вечеру всё еще быть королевой. Она старалась думать о Шоне Денсалье. Как теперь с ним поступить? Насколько он может быть опасен? Но не могла. Мысли снова переключались на то что происходило сейчас. Она подумала о трех индейцах муиска. О том как они наверно покорно, подчиняясь ему как господину, пошли за Родригесом в лес. "Как именно он их мучил?", спросила она себя с содроганием. Наверно как-нибудь чудовищно жестоко, ведь они дикари, полулюди-полуживотные и, если в нем есть или когда-нибудь была хоть толика человеколюбиям, несомненно на дикарей это не распространялось, и он скорей всего никак себя не обуздывал. Марии-Анне стало страшно. Но непонятно чего конкретно она боялась. Она то и дело напоминала себе, как ясно дала понять испанцу что Гуго непременно должен остаться в живых и конечно же Родригес не посмеет не выполнить этого. А значит он будет пытать его не сильно, как-нибудь… она не находила подходящего слова, нежно? Она почувствовала отвращение, омерзение. "Но он украл Роберта", попыталась убедить она себя. И теперь использует невинного ребенка, чтобы отнять у неё корону, он заслуживает этих страданий.
Она отвернулась от окна и облизала пересохшие губы. Сколько прошло времени после того как ушел Ольмерик? 10 минут? 15? Полчаса? Сколько уже длится пытка? Она направилась к двери, не понимая зачем. Но остановилась на полпути и медленно опустилась на кушетку. А если он всё вытерпит? Согье заверил её что это невозможно, что Родригес мастер своего дела. Но что если ненависть даст ему нечеловеческие силы, что если он её ненавидит так, что пересилит любую боль? И решит что скорее лучше умрет, чем скажет ей где принц. Господи, как же она посмотрит ему в глаза? Как же трудно было сделать это в Сент-Горте. И теперь снова. У неё защипало в носу и увлажнились глаза. "Почему я всё время мучаю его?", спросила она себя, чувствуя как у неё застывает ком в горле. Чудовище, неблагодарная тварь. "Будь же ты проклят Гуго Либер", с отчаяньем подумала она, "почему ты все время заставляешь меня мучить тебя". И она заплакала. Она не понимала о ком и почему она плачет, ей было жаль, пронзительно жаль, то ли себя, то ли Гуго, то ли утраченной молодости, то ли страдающего от боли мальчика с такими родными серыми глазами, то ли своего отца, превратившегося под конец жизни в жалкого спятившего старика, ставшего посмешищем всех соседей, уверовавшего что единственные сокровища – звезды небесные и раздававшего свои деньги, наследство своей дочери, налево и направо разным мошенникам и ворам. А может она жалела о каких-то сентиментальных закатах над бескрайними полями лавандами, которые больше никогда не повторятся, ибо даже если она вернется на родину и снова увидит это сиреневое море и пылающее Солнце над ним, это будет всё совсем другим, пустым, холодным, не таким как в юности. Она не знала о чем она плачет, но слезы текли и текли, рыдание рвались изнутри и с каждым из них становилось легче. Какая-то колючая тяжесть покидала её сердце и словно ангел, тот самый добрый ангел что был с ней с самого детства, стоял рядом, улыбался и гладил её по голове. Она вытирала ладонями лицо, шмыгала заложенным носом, втягивала сопли, дышала ртом и неотрывно глядела куда-то в пол. Затем наконец глубоко вздохнула, поднялась с кушетки, подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Долго смотрела в свои опухшие глаза. Какая вам выпала ночька, Ваше Величество, да? Её только что изнасиловал самодовольный молодчик, чьё семя она потом так унизительно оттирала со своих бедер, её сын томится где-то в заточении под присмотром скорей всего того жуткого монаха-мясника, где-то внизу хитроумный идальго вырывает ногти у человека, которому она клялась в любви, а где-то в городе бравые бароны Севера сговариваются о том как посадить её на кол. Хватит с меня этой королевской жизни, подумалось ей. Хватит. "А ночью под ясными звездами", пробормотала она, "Когда остановится речь, Позволь нам забыть всё то, Господи, Что мы не сумели сберечь." Это был какой-то глупый стих из тех что цитировал её отец, она ненавидела их также как его увлечение звездами, стоившее семье целое состояние. "Что мы не сумели сберечь", повторила она, глядя на себя в зеркало. Затем повернулась и пошла к двери.
61.
Гуго Либер, крепко примотанный бечевкой к дубовому креслу с высокой спинкой, находился в небольшой прямоугольной комнате с голыми каменными стенами и дощатым полом. Окна отсутствовали, из мебели, не считая упомянутого сиденья из мореного дуба, только длинная скамья, ветхий двустворчатый шкаф с покосившейся дверцей и грубый деревянный стол из плохо обструганных досок. На столе в медных чашах горели три свечи. Гуго неотрывно смотрел на пламя одной из них и старался ни о чем не думать.
Когда он вошел в эту комнату в сопровождении Ольмерика и тот попросил отдать ему меч, кинжал, шляпу и плащ, он спокойно это сделал. Протиктор взял одежду и оружие, предложил садиться и ушел. Через какое-то время он вернулся и, указав на мощное тяжелое дубовое кресло не совсем понятно откуда здесь взявшееся, ибо оно явно выпадало из контекста обветшалого интерьера данного помещения, сказал что Гуго нужно пересесть туда. Гуго послушно пересел. Затем Ольмерик достал из мешка моток бечевки и подступил к Гуго, невозмутимо сообщив ему, что должен его привязать к креслу.
– Зачем? – Спросил Гуго, чувствуя как сильно застучало сердце. Кажется он всё-таки ошибся в ней.
Протиктор равнодушно пожал могучими плечами.
– Не знаю. Так велели. Наверно просто на всякий случай, чтобы ты вдруг не удрал.
Он спокойно и даже как будто сонно глядел на Гуго, ожидая что тот сделает.
А Гуго понимал, что сделать может немногое, что против Ольмерика он все равно что воробей против кошки, тем более без оружия. Да и может Мария-Анна и правда решила просто перестраховаться, чтобы он не сбежал до утра, мало ли что взбредет ему в голову.
Он молча смотрел в глаза северянину. Тот, не дождавшись никакой реакции, подошел к креслу, положил правую руку Гуго на подлокотник и принялся обматывать веревкой. Затем проделал тоже самое с левой рукой, а затем и с лодыжками. После этого ушел.
Шли минуты, стояла абсолютная тишина и постепенно Гуго начал осмеливаться верить, что ничего плохо с ним не случится, видимо королева, памятуя о том как он исчез из дворца в Фонтен-Ри, решила на этот раз не рисковать, оставляя ему свободу движения. Он решил, что ему не стоит сердиться на неё из-за этого, это можно понять. Но вдруг дверь открылась и в комнату вошел незнакомый высокий мужчина в добротном темном камзоле, узких коричневых бриджах и высоких армейских сапогах. На поясе незнакомца расположились турецкий кинжал и наваха, в руках он держал большую плоскую кожаную сумку. Он поглядел на Гуго, приветливо улыбнулся и сказал:
– Добрый вечер, сеньор.
Гуго ничего не ответил, холодно взирая на вошедшего, ему стало очевидно, что его связали не только для того чтобы удержать от мнимого побега.
Не дождавшись ответа, Хорхе Родригес, всё тем же дружелюбным тоном сообщил:
– Меня попросили составить вам компанию, чтобы вы не заскучали в одиночестве.
Он прошел к столу и поставил на него сумку. Затем передвинул лавку так чтобы сидеть напротив Гуго. Усевшись, он цепко и пристально оглядел свою жертву.
– Как вы себя чувствуете, сеньор? – Спросил он.
Гуго против воли усмехнулся.
– Первый раз вижу такого заботливого живодера, – сказал он.
– Почему же живодер? – Удивился Хорхе Родригес. – Совсем напротив, я лекарь.
Гуго недобро глядел на него.
– Лекарь с ханджаром и навахой?
– Именно так, – улыбнулся Хорхе.
Он помолчал, внимательно вглядываясь в своего визави.
– Клянусь Святым Иаковым, – воскликнул он, – я где-то вас уже видел, сеньор. Ваше лицо мне определенно знакомо.
Он замолчал, видимо стараясь припомнить.
– Нет, не помню. А моё лицо вам не знакомо?
Гуго отрицательно покачал головой.
– Ну ничего страшного, – улыбнулся Хорхе Родригес. – Думаю теперь мы запомним друг друга. Так как вы себя чувствуете?
– Учитывая, что намертво привязан к креслу и полностью в вашей власти, честно говоря, не очень. Сеньор.
– Напрасно вы так. У меня нет никакой власти над вами. И она не нужна мне. Я пришел чтобы просто составить вам компанию. – Он немного помолчал, вглядываясь в лицо собеседника. – И задать вам пару вопросов.
Гуго усмехнулся и понимающе покачал головой. Значит он всё-таки ошибся в этой женщине. Или наоборот не ошибся? Он верил что она не решиться, но всё же допускал возможность, совсем небольшую. Ему было страшно, но страх был какой-то приглушенный, отдаленный, отстраненный. Он решил что больше ничего не испытывает к ней, ни любви, ни ненависти, она стала безразлична ему, не интересна, еще один человек свихнувшийся от жажды власти. Но тут же понял что это не так. Он не скажет ей где Роберт и завтра вечером Гильер Шестипалый увезет мальчика обратно к Рише. И та уже будет действовать по обстоятельствам. Вот теперь страх стал весомее и ощутимей, обстоятельства зависели от того останется ли он, Гуго Либер, живым или славная королева Мария-Анна запытает его до смерти. По опыту "чаепитий" с маркизом Ле-Сади в Сент-Горте Гуго знал что он не сможет долго выносить боль. Уже очень скоро он будет выть и орать и умолять перестать. Но маркиз ничего у него не спрашивал и у Гуго не было возможности остановить его, а здесь он будет знать, что его слова могут прекратить пытку. И сможет ли он выдержать? Страх стал сильнее. Одного воспоминания о "чаепитиях" было достаточно чтобы мысль о повторении подобного раздавила его. И он почти возненавидел себя за свою глупость, как он смел так рисковать собой, и ради чего, чтобы только проверить насколько она чудовище? Разве всей предыдущей жизни было недостаточно.
– Что с вами? – Спросил Хорхе и в его голосе звучала почти искренняя озабоченность. – Вы как будто дрожите.
Он встал, подошел к Гуго и наклонился к нему.
– Позвольте, – сказал Хорхе и взялся пальцами за запястье его левой привязанной к подлокотнику руки.
Некоторое время он слушал пульс, затем вгляделся в глаза Гуго.
– Вы очень взволнованы, даже возбуждены, – сказал он, распрямляясь. – Мне кажется вы боитесь.
Гуго поднял голову и посмотрел на возвышающегося над ним человека.
– Да, боюсь. Боюсь что не выдержу. А мне обязательно надо выдержать.
– Да, вы уж постарайтесь, – сказал Хорхе, направляясь к столу. – Вашему сердцу обязательно надо выдержать. А то, знаете ли, может очень нехорошо получится.
Встав возле стола, он начал открывать сумку. Повернув голову к Гуго, он спросил:
– А может просто ответите на мой вопрос и закончим на этом?
Гуго сглотнул, в горле пересохло.
– Какой вопрос?
– Местонахождение ребенка. Просто скажите где его можно найти в данную минуту и наш разговор будет закончен.
Они очень долго смотрели друг другу в глаза. Хорхе застыл, перестав возиться с сумкой. Ему показалось на секунду что привязанный к креслу человек готов дать ответ и он боялся вспугнуть эту готовность.
– Не понимаю о чем вы говорите, сеньор, – наконец проговорил Гуго.
– Жаль, – сказал Хорхе и вернулся к сумке.
Он начал доставать из неё предметы, показывать Гуго и давать пояснения.
– В инквизиционных трибуналах Кастилии эту веревочку прозвали "голос разума", – он показал кусок тугой бечевки с завязанной на ней дюжиной узлов. Присовокупив к ней прямую, длиной в фут палочку, сказал: – С помощью этих нехитрых инструментов голос разума услышали многие евреи и мавры. Ну и прочие… гхм, еретики. А это обсидиановый нож, весьма примечательная вещь, сеньор, именно такими безбожники ацтеки вырезали сердца у несчастных жертв в своём проклятом Теночтитлане, пока отважный Эрнан Кортес не прекратил эти зверства и не избавил мир от этих нечестивцев. Обсидиан, умело обтесанный, режет невероятно тонко, тоньше волоса, если края раны свести вместе и подержать четверть часа, рана затянется. А вот в этой баночке кайенский перец – драгоценнейшая субстанция, вот эта склянка, клянусь богом, стоит не меньше 15 дублонов. Так вот если рассечь кожу обсидианом, аккуратно вложить туда перец, свести края и крепко замотать, рана затянется, тогда как жгучая боль никуда не денется. Её источник останется внутри тела и будет причинять совершенно немыслимые страдания, просто-таки адовы муки. Дикари в Новом Свете так развлекались со своими врагами. Пленного заправляли перцем и привязывали к дереву. Несчастный сходил с ума от боли, а заодно и бесконечного зуда, превращаясь в жалкое воющее животное, и если не умирал от разрыва сердца, дикари забивали его палками, устав слушать его крики.
Хорхе замолчал, разглядывая разложенные на столе предметы. Приняв какое-то решение, он направился к Гуго. Достав наваху и разложив её, он ловко рассек камзол и рубаху на левом плече Гуго. Оголив часть руки своей жертвы, он замер с любопытством разглядывая бесформенные блямбы-шрамы на руке Гуго.
– От чего это у вас? – Спросил он.
Гуго ничего не ответил, глядя в пустоту перед собой.
– Вот это ожоги, а вот этот точно от щипцов. Кто это сделал?
Гуго холодно посмотрел на испанца.
– Ещё один лекарь, пытался исцелить мою душу от греха.
– И что, ему удалось? – улыбнулся Хорхе.
– Ему не дали закончить, доблестный протиктор королевы Марии-Анны разрубил ему шею.
Хорхе выпрямился, внимательно глядя на своего подопечного.
– Всё еще не желаете сообщить мне местонахождение мальчика?
Гуго отрицательно покачал головой. Хорхе задумчиво разглядывал его.
– Пожалуй начнем с "голоса разума", – сказал он.
Убрав наваху, он принес веревку с узлами и достаточно плотно завязал её вокруг головы Гуго. После чего, на его затылке вставил деревянный стержень между черепом и веревкой.
– Ей-богу, сеньор, лучше бы вы сказали то что от вас требуется, – посоветовал Хорхе вполне искренне, – иначе вас ждет тяжелая ночь.
– Я подумаю, – тихо ответил Гуго.
– Подумайте, – сказал Хорхе и начал поворачивать стержень в вертикальной плоскости, натягивая веревку.
Почувствовав как по окружности ему сдавливает голову, Гуго подумал: "Прости меня, Роберт…"
Через секунду дверь распахнулась и в комнату стремительно вошла Мария-Анна и за ней Ольмерик.
Увидев происходящее, королева застыла на месте. На её побледневшем лице отчетливо читался страх. Хорхе опомнился первым, он повернул стержень обратно, ослабляя удавку и вынул его из петли.
– Ваше Величество? – вполне сохраняя самообладание, произнес он.
Мария-Анна открыла рот, вдохнула и наконец сказала:
– Мэтр, можете быть свободны. Ступайте к себе. Завтра утром… с вами всё решат. Ступайте.
Хорхе деловито поклонился, снял веревку с головы Гуго, очень быстро собрал свои вещи и вышел.
Мария-Анна глубоко вздохнула.
– Ольмерик, развяжи его.
Протиктор, не мудрствуя лукаво, перерезал ножом путы пленника и отступил к стене.
– Выйди.
Он вышел и закрыл дверь.
Гуго медленно убрал с себя перерезанные веревки, потер запястья и поднялся. Мария-Анна неотрывно глядела в него. Он казался очень уставшим. Худой, сутулый, с изможденным лицом и растрепанными волосами, где было уже предостаточно седины, с большими как у ребенка глазами, которые сейчас были словно пусты, с распоротым левым рукавом камзола и сорочки, он выглядел несчастным. Мария-Анна смотрела на него и сердце её теснила тоска какой-то неодолимой безысходности. В кого превратился тот мужчина, с которым она так сладко заигрывала пятнадцать лет назад на узкой дороге сквозь волшебное сиреневое поле лаванды. Или наверно в кого она его превратила. Из её глаз потекли слезы, нос опять заложило, она шмыгала им и понимала, что выглядит сейчас глупо, очень глупо, так глупо перед этим человеком.
– Ты плачешь? – Медленно проговорил он, словно не мог в это поверить.
Она начала вытирать ладонями под глазами.
– Ты плачешь, – повторил он.
– Плачу. Потому что… потому что я ненавижу тебя. Ты единственный мужчина в моей жизни, который заставлял меня плакать.
Наконец она как-то успокоилась, слезы утихли, она сделала пару шагов вперед, приблизившись к нему.
– То что произошло здесь это… недоразумение. Я не хотела этого. Пожалуйста, пойми это.
Он кивнул, показывая, что понимает.
– Надеюсь, что этот испанец, что он…
– Всё в порядке. Он ничего мне не сделал. Только говорил со мной. Рассказывал о Новом Свете.
Они смотрели друг другу в глаза и молчали. Слов уже было достаточно, или может недостаточно и ими уже нельзя было выразить всё что творилось в душе каждого из них.
Мария-Анна опустила глаза.
– Пойдём, – сказала она.
Они в сопровождении Ольмерика поднялись на второй этаж и прошли к покоям королевы. Оставив протиктора за дверью, вошли в будуар.
– Прости, я не спросила тебя, может ты хочешь есть, – проговорила Мария-Анна.
Он отрицательно покачал головой.
Она подошла к нему, немного поколебалась, но затем протянула правую руку и поправила ему волосы, сдвинула их, пригладила. Убрала какую-то нитку с камзола, отряхнула несуществующую грязь, потрогала разорванные края рукава, словно прикидывая можно ли это зашить. Гуго внимательно наблюдал за ней.
– Ты действительно ненавидишь меня? – Тихо спросил он.
Она утвердительно покачала головой. Посмотрела ему в глаза и сказала:
– Ты ложись здесь на кушетке. Я сейчас принесу покрывало.
– Благодарю, – пробормотал он.
– Ты не волнуйся, пожалуйста. Теперь всё будет как ты хочешь.
Он покачал головой.
– Благодарю, – повторил он и пошел к кушетке.
Мария-Анна еще несколько секунд наблюдала за ним, затем отправился в спальню за покрывалом.
62.
В соборе и вокруг него толпилось изрядное количество людей. День обещал быть ясным и теплым, но в этот утренний час еще царствовала благоуханная свежесть и даже прохлада и люди, вдохновленные этой свежестью и заинтригованные предстоящим событием, пребывали в приятном возбуждении, были весьма активны и словоохотливы. Помимо важных церковников, представителей высшей знати королевства, влиятельных чиновников и крупных вельмож, вокруг собора собралось и немало горожан, жителей предместий и ближайших деревень, взволнованных слухами о некой королевской церемонии и жаждущих хоть одним глазком увидеть всё её пышное великолепие, а также всех этих надменных властьимущих правителей. Вдобавок к этому здесь же присутствовали королевские солдаты, королевские драгуны, городские стражники, призванные следить за порядком и обеспечивать охрану могущественных гостей церемонии. Помимо них здесь было еще и немало вооруженных людей из личной охраны того или иного знатного аристократа или вельможи. Вся эта разношерстная, громкоголосая задиристая публика заняла практически всю территорию вокруг громадного здания собора и близлежащий улиц. К этому также следует присовокупить бесчисленные кареты и повозки, кое-как разместившиеся на тротуарах вдоль зданий, а также их крикливых возничих и пронырливых лакеев и слуг. И только роскошным экипажам самых влиятельных лиц страны позволили заехать прямо во внутренний двор собора и разместиться более-менее свободно и с комфортом.
В сам собор допускали исключительно тех, кто был заранее внесен в тщательно составленный список. Это была большая привилегия и по сути признание за гостем особого статуса принадлежности к высшей касте. И благодаря этому здесь не было такой давки и столпотворения как снаружи. Тем не менее количество приглашенных, а скорее обязанных присутствовать, гостей было достаточно велико и потому и в самом соборе ощущалась некоторая теснота. Собравшиеся стояли у колонн, вдоль стен, сидели на тяжелых дубовых лаках, толпились в проходах. И именно здесь бросалась в глаза вся та пышность и великолепие в нарядах и украшениях, ради которых зеваки за стенами собора и пришли на это мероприятие. Каждый из высокопоставленных гостей в той или иной мере старался подчеркнуть свой статус, выделиться из общей массы, а многие, главным образом дамы, по сути только и были озабочены тем чтобы перещеголять прочих присутствующих. Повсюду блестела парча и шелк, золотая и серебряная вышивка, сверкали драгоценные камни, переливались бриллианты, тускло светился крупный жемчуг. Многие, несмотря на теплые погоды, украсили себя драгоценными мехами и то и дело поправляли свои накидки и плащи, дабы изумительные меха играли и сияли, вызывая восхищение и зависть. И даже служители церкви, коим вообще-то согласно их сану и христианскому учению в целом надлежало являть собой символ умеренности и воздержания, а также кротости и смирения, тем не менее явили себя свету в безумно роскошных мантиях и с многочисленными перстнями на тонких пальцах со столь вызывающе крупными самоцветами, что их скорее можно было ожидать увидеть на руках каких-нибудь азиатских владык, а не скромных служителях Католической церкви. Но более всех своим внешним видом, как и манерой поведения, выделялись северные бароны. Каждый лязгал клинками и металлическими пластинами, изготовленными с большим искусством и украшенных изумительной гравировкой, звенел толстыми золотыми цепями с вычурными медальонами, скрипел бесчисленными тугими кожаными ремнями, громыхал тяжелыми подкованными сапогами, задевал окружающих своими безмерно широкими меховыми накидками. При этом все пальцы рук практически у всех баронов имели хотя бы по одному перстню, а некоторые и по два. Бароны в основном держались особняком и на других смотрели надменно, а если это был к тому же священник или чиновник, то и с откровенным презрением.
Бароны сразу же вышли вперед, туда где вокруг алтаря было сооружено нечто вроде помоста, к которому вели три ступеньки слева и справа. Именно там должно было произойти главное действо предстоящей церемонии. Внизу вдоль этого помоста в качестве стражей расположились четверо протикторов. Все они были как на подбор высокие, широкоплечие, молодые, с непроницаемыми лицами и холодными голубыми глазами. Каждый с двумя мечами, двумя кинжалами на поясе и большой секирой за спиной. В своей темной невероятно роскошной, Мария-Анна не жалела на это средств, парадной форме они выглядели по-настоящему внушительно и достойно. Бароны, в нетерпеливом ожидании появления королевы, вышагивали туда-сюда перед протикторами, бесцеремонно разглядывая их словно необычных животных. Среди самих баронов более остальных своим вызывающим поведением выделялся владетель Орна, барон Этьен де Вэлоннэ, по прозвищу Сизый Нос. Это был мужчина среднего роста, немногим за тридцать, с коротко остриженными черными волосами, неряшливой бородой и усами. Барон обладал очень широкими плечами, крепким торсом, мощными ладонями с толстыми пальцами и судя по всему немалой физической силой. А его грубый бесформенный нос действительно был очень заметного фиолетового оттенка. Этьен де Вэлоннэ остановился прямо перед одним из протикторов и долго глядел на него тяжелым хмурым взглядом. Затем на его лице проступило явное никак не скрываемое презрение к светловолосому норманну. Казалось еще мгновение и барон смачно плюнет в ноги протиктору. Товарищи барона, зная его нрав, вполне могли допустить подобное. Но в этот момент в пространство перед алтарем вошли канцлер Диего де Макрон, герцог де Моранси и военный министр кардинал Жан-Арман Равалле. Появление двух самых могущественных после королевы людей страны всё-таки возымело некоторое действие на бравого Этьена де Вэлоннэ. Он покосился на двух важных чиновников и отошел прочь от молодого протиктора.




