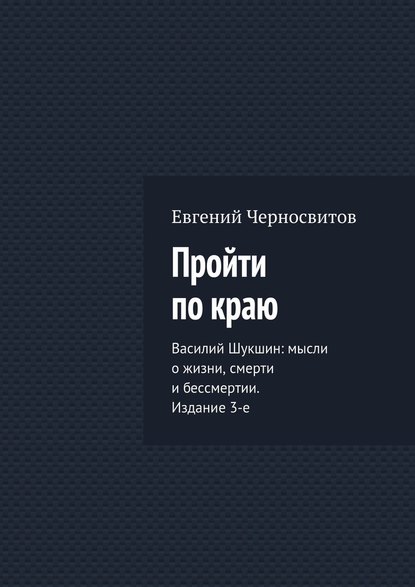По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пройти по краю
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У попа «козлиная песнь». В экстатической пляске это П а н на краю своей гибели (не сатана, а з в е р ь: пьет о г о н ь, ж а р, суть спирт символ, жрет барсуков, суть кровожадный зверь). Но и здесь не так все просто и однозначно, как смерть Пана в западном смысле: «Рубаха на попе на спине взмокла, под рубахой могуче шевелились бугры мышц: он, видно, не знал раньше усталости вовсе, и болезнь не успела еще перекусить тугие его жилы. Их, наверное, не так легко перекусить: раньше он всех барсуков слопает. А надо будет, если ему посоветуют, попросит принести волка пожирнее – он так просто не уйдет, – рассказывает Шукшин. – За мной! („сарынь на кичку!“ – Е. Ч.), – опять велел поп. И трое во главе с яростным, раскаленным попом пошли, приплясывая, кругом, кругом. Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы… На столе задребезжали тарелки и стаканы». «Эх, верую! Верую!..» «В барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую оглоблю-у! В плоть и мякоть телесную-у!» Громадную смысловую нагрузку несут плясовые присказки, почти расшифровывающие душевное состояние, экстатический праздник героев «Верую!». Вот:
Эх, верую, верую!
Ту-ды, ту-ды – раз!
Верую, верую!
М-па, м-па, м-па, – два!
Верую, верую!..
Это м у ж с к о е н а ч а л о, рвущееся из могучей глотки орущего попа. «А вокруг попа, подбоченясь, мелко работал Максим Яриков и бабьим голосом громко вторил:
У-тя, у-тя, у-тя – три!
Верую, верую!
Е-тя, е-тя – все четыре!»
Это ж е н с к о е н а ч а л о. Вместе звучит нечто весьма откровенно скабрезное:
Эх, верую, верую!
Ты-на, ты-на, ты-на – пять!
Все оглобеньки – на ять!
Верую! Верую!
А где шесть, там и шерсть!
Верую! Верую!
А т р е т и й, Илюха? «…Посмотрел-посмотрел на них и пристроился плясать тоже. Но он только время от времени тоненько кричал: „И-ха! И-ха!“ Он не знал слов». Это, несомненно, м е л к и й бес, сологубовский «недотыкомка». Кстати, родственник попа.
Святая троица? Отличный пассаж! Э к с т а т и к о о р г а з м и ч е с к о е «верую!».
Судьба. Читаем: «Вера в судьбу явно противоречит христианскому учению. Поэтому попытка объяснить ее христианским влиянием – не больше, чем курьез. Однако считать ее наследием языческого культа, как обычно до сих пор делалось, тоже едва ли правильно: ведь эта вера представлена и у народов с другими официальными культами, например, в античном мире или у мусульманских народов. Более вероятно поэтому, что корни веры в судьбу в каких-то глубинных особенностях психики, всего скорее в представлении о прочности времени…»
В «судьбу» органически входит представление об э р о с е и т а н а т о с е – двух силах, которые находятся в постоянной и непримиримой вражде за в л а с т ь над миром и каждым отдельным человеком. В. Горн замечает: «С огромным бесстрашием он (Шукшин. – Е. Ч.) пытался постигнуть смысл жизни и смерти». И дальше эти тревожные раздумья окрашивались у Шукшина в разные тона, неразрешимые вопросы задавались с разной степенью напряженности: в них можно обнаружить трагическую безысходность и светлую печаль, крик души «на пределе» и скорбные думы о конечности бытия, печальные мысли о сиюминутности человеческой жизни, в которой так мало места было красоте. Шукшин пишет: «Стариковское дело – спокойно думать о смерти. И тогда-то и открывается человеку вся сокрытая, изумительная, вечная красота Жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напоследок с болью насытился ею. И ушел».
Смерть. А рядом «мудрое спокойствие». Или вот ее эстетический образ: «Костер потрескивает, выхватывает из тьмы трепетный слабый круг света. А дальше, выше, кругом – огромная ночь. Теплая, мягкая, гибельная». «Трепетный, слабый круг света» – это жизнь отдельного человека. «Костер» – это эрос, л ю б о в н о е беспокойство. В нем «здесь, на Земле, ворочается, кипит, стонет, кричит Жизнь… Зовут неутомимые перепела. Шуршат в траве змеи. Тихо исходят соком молодые березки». Все ярко, образно и наглядно-символично.
Жизнь – беспокойное томление, первое осознание которого на в с ю жизнь. «Вот тут, у этого тополя, будешь впервые в жизни ждать девчонку… Натопчешься, накуришься… И тополь не тополь, и кусты эти ни к чему, и красота эта закатная – дьявол бы с ней. Не идет! Ничего, придет. Не она, так где-нибудь, когда-нибудь – другая. Придет. Ты этот тополь-то… того… запомни. Пройдет лет тридцать, приедешь откуда-нибудь из далекого далека и этот тополек поцелуешь. Оглянешься – никого, и поцелуешь. Вот тот проклятый вечер-то, когда заря-то полыхала, когда она не пришла- то – вот он и будет самый дорогой вечер. Это уж так. Не мы так решаем, кто-то за нас распоряжается, но… это так. Проверено.
А еще, парень, погляди на эту дорогу…
Погляди, погляди… Внимательно погляди. Это из села. Вон столбы туда пошагали. Послушай подойди, как гудят провода. Еще погляди на дорогу… А теперь погляди на меня. В глаза мне…»
Игорь Золотусский отмечает: «Есть, конечно, в шукшинской разговорности что-то завораживающее, заговаривающее, есть что-то разбирающее мысль на впечатления, уводящие от самой мысли. Шукшин сам уходит и нас уводит. Но мы, со следа его сойдя, на свою дорогу выйти можем. Важно, что след есть, дорога указана».
Слово и взгляд у Василия Макаровича особые, г и п н о т и з и р у ю щ и е. Это многие подмечали. За этим л и ч н о с т ь, ее обаяние, аура. Юрий Скоп в «Совсем немногих словах о друге» отдельную часть отводит глазам Василия Макаровича. И начинает ее: «Я научился у него слышать в себе свою Родину. Это от него перешло ко мне всякое понимание того, что без д у ш е в н о г о (индивидуально-интимного. – Е. Ч.) не может быть д у х о в н о г о (общественно значимого. – Е. П.). И наоборот». Дальше: «…сейчас …когда Макарыча больше нет… И есть только память, из глубины которой глядят и глядят на меня внимательно его, ш у к ш и н с к и е, глаза…
Вы знаете, я только теперь понял, как он смотрел. Раньше мне почему-то казалось, что он смотрит на жизнь сквозь какой-то постоянно присутствующий во взгляде прищур. А на самом-то деле – прищура не было. Он смотрел на мир очень открыто. Зато открытость эта, зафокусированная внутренним вниманием, и рождала потом ощущение внешнего прищура. Это что- то вроде встречных фар на ночном шоссе. Они полны светом, и ты щуришься, а кажется, что уменьшается встречный свет. Шукшин в г л я д ы в а л с я в жизнь, а это совсем другое, чем просто смотреть, или видеть».
И слово, и взгляд Василия Макаровича могли находить и обнажать скрытую душевную боль и врачевать душу. А это может только тот, кто сам знает, «почем фунт лиха». Не случайно это признание: «Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог, но сам больной». Но одни могли только обнажать, нащупав самые скрытые «язвы». Как, например, Достоевский или Успенский. Но были и великие врачеватели, обвораживающие, обволакивающие, утешающие и успокаивающие. Писатели-психотерапевты: Тургенев, Бунин, Федор Сологуб, Цветаева… И здесь же Шукшин.
Много у В. М. Шукшина сказано о душевном спокойствии и мудрости. Этим «состояниям души» явно и неявно противопоставляются суетность, всезнайство с одной стороны и боль, тоска – с другой стороны. В центре внимания – образ мудрого русского старика, «который доживает жизнь, но еще крепок», у которого «голова свежа» и который «жизнь прошел и знает вдоль и поперек». Но чтобы понять этот образ, нужно вспомнить и следующие высказывания Василия Макаровича: «Не старость сама по себе уважается, а прожитая жизнь. Если она была». Значит, дело не в старости, как особом возрасте, не в количестве лет. А в жизни. Мудрость и жизнь, жизненный опыт опять же как особый д а р. Вот Шукшин говорит о С. А. Герасимове: «…с большим опытом пришло нечто весьма мудрое – спокойствие». Незадолго до смерти Шукшин говорит о своем впечатлении, которое произвела на него встреча с Шолоховым: «Скажу откровенно; Шолохов для меня – открытие… Каким я его увидел при личной встрече? Очень глубоким, мудрым, простым. Для меня Шолохов – олицетворение летописца… Он внушил, нет, не словами, а собственным примером, своим присутствием и в Вешенской и в большой литературе, что не нужно спешить, гнаться за рекордами в искусстве, что надо искать тишины и спокойствия, чтобы глубоко обдумывать судьбы народные». Вспоминая о фильме Марлена Хуциева «Мне двадцать лет», Шукшин рассказывает: «…я ушел с фильма настроенный крепко подумать о людях, о своей жизни, о жизни вообще. Об искусстве. Такое было ощущение, как будто хорошим летним вечером поговорил на берегу реки с умным стариком. И вот он ушел, а ты сидишь и думаешь. А река течет себе, и заря уж гаснет, а тут охватило нетерпеливое желание до чего-то все-таки додуматься. Люблю такое настроение, берегу его, редко оно случается – все дела, заботы, все некогда, торопимся». Да, суета, суетное стремление ухватить от всего понемножку… Это не жизнь. А образ мудрого старика рядом (как бы дополняется) с образом реки. Случайно ли это сочетание, отражает ли оно просто некое лирическое настроение Василия Макаровича или нечто большее? Нам помогает осознать данное Василий Белов. В своем «Ладе» он пишет: «Образ реки в народной поэзии так стоек, что с отмиранием одного жанра тотчас же поселяется в новом, рожденном тем или другим временем. Как и всякий иной, этот образ неподвластен анализу, разбору, объяснению. Впрочем, анализируй его сколько хочешь, разбирай по косточкам и объясняй сколько угодно – он не будет этому сопротивляться. Но никогда не раскроется до конца, всегда оставит за собой право жить, не поддается препарированию, удивляя своего потрошителя новыми безднами необъяснимого… Река течет. Она то мерцает на солнышке, то пузырится на дождике, то покрывается льдом и заносится снегом, то разливается, то ворочает льдинами… Что-то родное, вечно меняющееся, беспечно и непрямо текущее, обновляющееся каждый момент и никогда не кончающееся, связывающее ныне живущих с уже умершими и еще не рожденными, мерещится и слышится в токе воды. Слышится всем. Но каждый воспринимает образ текущей воды по-своему».
«Река жизни сущего» – с а м с а р а – наиболее сложное понятие древнеиндийской философии. Это и «огненно-водный цикл», и «перетекание душ» (говорят о «переселении душ» или «метемпсихозе»), подчиняющееся высшему нравственному закону к а р м ы (см.: «Чхандогья упанишады»), взаимосвязь всего живого и живущего. Самсара проходит через каждую отдельную душу. Шум этой реки (или этого «пламени» – таджас – «огненной реки») может в себе услышать каждый, достаточно пальцами зажать уши. Начало и конец самсары неуловимы, как начало и конец рождения и смерти. Плачет Дашаратхи и причитает: «Тоска по Раме – бездонная пучина, разлука с Ситой – водная зыбь, вздохи – колыханье волн, всхлипывания – мутная пена. Простирания рук – всплески рыб, плач – морской гул. Спутанные волосы – водоросли. Кайкейи – подводный огонь. Потоки моих слез – источники, слова – горбуньи – акулы. Добродетели, принудившие Раму уйти в изгнание, – прекрасные берега. Этот океан скорби, в который меня погрузила разлука с Рамой, увы! – живому мне уж не пересечь, о Каушалья!» («Рамаяна»). Вот куда уводит сочетание двух образов реки и мудрого старца.
Василий Макарович говорит как об «опасности» или «постыдной легкомысленности» о болтунах, трепачах и лгунах и противопоставляет им людей, подлинно интеллигентных («интеллигентность – это мудрость и совестливость»). Интеллигенты – это, люди н а с т о я щ и е. Но верно и обратное – настоящие люди – и н т е л л и г е н т ы. Поэтому не является неожиданным утверждение о Разине: «Если в понятие интеллигентности входит болезненная совестливость и способность страдать чужим страданием, он был глубоко интеллигентным человеком». Вот Шукшин призывает: «…вслушайтесь – искус-ство! Искусство – так сказать, чтоб тебя поняли. Молча поняли и молча же сказали «спасибо». Молча… лишь взглядом… Ведь не врем же мы!» «Слушай умных людей, не болтунов, а умных. Сумеешь понять, кто умный – «выйдешь в люди»…», понимай – станешь настоящим человеком. И опять образ мудрого старика (в общем подтексте – мудрость не выбирает место для жительства): «…но и там, и там есть такие вот душевные, красивые люди, как эти старики. Один, наверно, не прочитал за всю жизнь ни одной книжки, другой – «одолел» Гегеля, Маркса… Пропасть! Но есть нечто, что делает их очень близкими – Человечность. Уверен, они сразу бы нашли общий язык. Им было бы интересно друг с другом. И зарю они, наверно, одинаково любят: мудро, спокойно, молча. И людей понимают одинаково: пустого человека, как он ни крутись, раскусят. И дурака-начальника встречают одинаково: немножко весело, немножко грустно, но, в общем, терпимо. Что делать?» Настоящие, хорошие люди – «интеллигенты духа». И дело даже не в возрасте. Так, Иван Расторгуев (лет сорок ему? Нюре он снится в облике Стеньки Разина…) и профессор-языковед, -мудрый старик, скоро и просто находят взаимный интерес друг к другу. А сын профессора, наверное, одногодок и даже «тезка» Ивана, социолог с «цифрами», остается в стороне.
Молчаливое понимание сущего далеко от суесловия. Это разные полюсы – дух и бездуховность, интеллигентность и «мещанство», культура и «культурный суррогат». По разным полюсам разведены и «экономист, знаток социальных явлений с цифрами в руках», и другой, который в любом исторически неизбежном процессе умеет разглядеть боль и драматизм человеческих судеб и «только так и в этом смысле касается проблемы».
Молчание – это тоже состояние души растревоженной. Как у Марины Цветаевой:
А мне от куста – не шуми
Минуточку, мир человечий!
– А мне от куста – тишины:
Той, между молчаньем и речью…
Когда человек молчит, чаще всего говорит его совесть. Тогда замолкает и бог. Не нужно никаких иных «инстанций», кроме совести. Но и с ней есть л а д и р а з л а д. А совестно бывает не только за себя, но и за других.
Человек совестливый «…всем существом тянется к прекрасному, силится душой своей, тонкой и поэтичной, обнаружить в жизни гармонию», как Пашка Колокольников. Но «герой» почему-то не он, а «демагог чувств».
Душа, страдание и боль, сострадание и тоска, заветные надежды и заветные страхи, п р а з д н и к души, наконец… Почему все это нужно чем-то объяснять? Разве все это лишь «отражение» чего-то «объективного» и само по себе не имеет ценности и значимости? Разве когда-нибудь человек перестанет с т р а д а т ь? «История души» разве не может быть ц е л ь ю искусства? О б ъ е к т о м дум?
Марк Аврелий в Десятой книге «Размышлений» пишет: «Будешь ли ты когда, душа, добротной, простой, единой, нагой, более явственной, чем облегающее тебя тело? Отведаешь ли ты когда дружественного и готового к лишению душевного склада? Будешь ли ты когда наполненной, далекой от нужды, ничего не алчущей, не желающей ничего одушевленного или неодушевленного ради вкушения наслаждений: ни времени, чтобы вкушать их далее, ни мест каких-либо и краев, ни воздушного благорастворения, ни человеческого благорасположения. Когда удовольствуешься ты тем, что есть, и возрадуешься всему, что здесь, когда уверуешься, что и все у тебя хорошо, и что все это от богов, и будет хорошо все, что им мило, что дадут они еще во спасение существа совершенного, благого, прекрасного, все порождающего и соединяющего, окружающего, приемлющего то, что распадается, чтобы вновь породить подобное. Ты будешь ли когда тою, которая и с богами, и с людьми может в одном граде жить, ни в чем их не укоряя и от них не заслуживая осуждения?»
Не пережил В. М. Шукшин «горячей точки» своей биографии. Умер в одночасье. Не обрел желаемого покоя и воли. И не вернулся, как обещал, на свою «малую родину». «И всякий раз, когда фильм подходит к концу, я обнаруживаю с грустью, что бежал слишком скоро, радость кончилась, мое движение прекратилось». Он жил ц е л ь н о, но были «куски» в этой жизни, где «…надо импровизировать как бог на душу положит, и важно не вспугнуть эту импровизацию». Ибо «есть моменты в игре, которые касаются неких сокровенных сторон души». В поисках нравственных ценностей, прочных и верных ориентиров в жизни он призывал «не прямо учить, а через какую-то судьбу, характер, через гибель даже… через гибель…». Существен штрих в этих высказываниях Шукшина: «Момент, или, так сказать, вопрос расплаты за содеянное, меня очень ну вот по-живому волнует. Очевидно, мы за все в самом деле должны платить в жизни, и при всем при том, что нам иногда жаль прямо так глядеть и видеть, как человек погибает, но сила разума нам должна говорить, что если случилось непоправимое, что если случилось необратимое, приход к такому финалу, к такому концу жизни должен состояться все равно; он должен состояться, и он состоялся».
Может быть, озарение, как жить, пришло слишком поздно. Слишком долго «в мыслях подкрадывался» к тому, что «самое дорогое в жизни – постижение, для чего нужно определенное стечение обстоятельств и прежде всего – покой» (хотя это и «древняя мысль» и не его, Василия Макаровича Шукшина, «изобретение»).
Вещим оказалось признание: «Так у меня вышло к сорока годам, что я – ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже не между двух стульев, а скорей так: одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как страшновато. Долго в таком положении пребывать нельзя, я знаю – упадешь. Не падения страшусь (какое падение? откуда?) – очень уж, действительно, неудобно. Но и в этом моем положении есть свои „плюсы“ (з а х о т е л о с ь в д р у г н а п и с а т ь – ф л ю с ы). От сравнений всяческих „оттуда- – сюда“ и „отсюда – туда“ невольно приходят мысли не только о „деревне“ и о „городе“ – о России».
Сильные идут дальше. И «хорошие», и «плохие» – все в одну сторону. Неожиданно вспоминается стихотворение-притча И. А. Бунина «Святогор и Илья». Выехали два брата-богатыря Святогор и Илья на гривистых конях на косматых в серо поле прогуляться и размяться и увидели гроб, да большой:
Гроб глубокий, из дуба долбленный,
С черной крышей, тяжелой, томленой,
Вот и поднял ее Святогор,
Лег, накрылся и шутит: «А впору!
Помоги-ка, Илья, Святогору
Снова выйти на божий простор!»
Обнял крышку Илья, усмехнулся,
Во всю грузную печень надулся.
Двинул кверху… Да нет, погоди!
«Ты мечом!» – слышен голос из гроба.
Он за меч, – занимается злоба,
Загорается сердце в груди,
Но и меч не берет: с виду рубит,
Да не делает дела, а губит:
Где ударит – там обруч готов,
Нарастает железная скрепа:
Не подняться из гробного склепа
Святогору во веки веков!
Кинул биться Илья – божья воля.
Едет прочь вдоль широкого поля,
Утирает слезу… Отняла
Русской силы Земля половину:
Эх, верую, верую!
Ту-ды, ту-ды – раз!
Верую, верую!
М-па, м-па, м-па, – два!
Верую, верую!..
Это м у ж с к о е н а ч а л о, рвущееся из могучей глотки орущего попа. «А вокруг попа, подбоченясь, мелко работал Максим Яриков и бабьим голосом громко вторил:
У-тя, у-тя, у-тя – три!
Верую, верую!
Е-тя, е-тя – все четыре!»
Это ж е н с к о е н а ч а л о. Вместе звучит нечто весьма откровенно скабрезное:
Эх, верую, верую!
Ты-на, ты-на, ты-на – пять!
Все оглобеньки – на ять!
Верую! Верую!
А где шесть, там и шерсть!
Верую! Верую!
А т р е т и й, Илюха? «…Посмотрел-посмотрел на них и пристроился плясать тоже. Но он только время от времени тоненько кричал: „И-ха! И-ха!“ Он не знал слов». Это, несомненно, м е л к и й бес, сологубовский «недотыкомка». Кстати, родственник попа.
Святая троица? Отличный пассаж! Э к с т а т и к о о р г а з м и ч е с к о е «верую!».
Судьба. Читаем: «Вера в судьбу явно противоречит христианскому учению. Поэтому попытка объяснить ее христианским влиянием – не больше, чем курьез. Однако считать ее наследием языческого культа, как обычно до сих пор делалось, тоже едва ли правильно: ведь эта вера представлена и у народов с другими официальными культами, например, в античном мире или у мусульманских народов. Более вероятно поэтому, что корни веры в судьбу в каких-то глубинных особенностях психики, всего скорее в представлении о прочности времени…»
В «судьбу» органически входит представление об э р о с е и т а н а т о с е – двух силах, которые находятся в постоянной и непримиримой вражде за в л а с т ь над миром и каждым отдельным человеком. В. Горн замечает: «С огромным бесстрашием он (Шукшин. – Е. Ч.) пытался постигнуть смысл жизни и смерти». И дальше эти тревожные раздумья окрашивались у Шукшина в разные тона, неразрешимые вопросы задавались с разной степенью напряженности: в них можно обнаружить трагическую безысходность и светлую печаль, крик души «на пределе» и скорбные думы о конечности бытия, печальные мысли о сиюминутности человеческой жизни, в которой так мало места было красоте. Шукшин пишет: «Стариковское дело – спокойно думать о смерти. И тогда-то и открывается человеку вся сокрытая, изумительная, вечная красота Жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напоследок с болью насытился ею. И ушел».
Смерть. А рядом «мудрое спокойствие». Или вот ее эстетический образ: «Костер потрескивает, выхватывает из тьмы трепетный слабый круг света. А дальше, выше, кругом – огромная ночь. Теплая, мягкая, гибельная». «Трепетный, слабый круг света» – это жизнь отдельного человека. «Костер» – это эрос, л ю б о в н о е беспокойство. В нем «здесь, на Земле, ворочается, кипит, стонет, кричит Жизнь… Зовут неутомимые перепела. Шуршат в траве змеи. Тихо исходят соком молодые березки». Все ярко, образно и наглядно-символично.
Жизнь – беспокойное томление, первое осознание которого на в с ю жизнь. «Вот тут, у этого тополя, будешь впервые в жизни ждать девчонку… Натопчешься, накуришься… И тополь не тополь, и кусты эти ни к чему, и красота эта закатная – дьявол бы с ней. Не идет! Ничего, придет. Не она, так где-нибудь, когда-нибудь – другая. Придет. Ты этот тополь-то… того… запомни. Пройдет лет тридцать, приедешь откуда-нибудь из далекого далека и этот тополек поцелуешь. Оглянешься – никого, и поцелуешь. Вот тот проклятый вечер-то, когда заря-то полыхала, когда она не пришла- то – вот он и будет самый дорогой вечер. Это уж так. Не мы так решаем, кто-то за нас распоряжается, но… это так. Проверено.
А еще, парень, погляди на эту дорогу…
Погляди, погляди… Внимательно погляди. Это из села. Вон столбы туда пошагали. Послушай подойди, как гудят провода. Еще погляди на дорогу… А теперь погляди на меня. В глаза мне…»
Игорь Золотусский отмечает: «Есть, конечно, в шукшинской разговорности что-то завораживающее, заговаривающее, есть что-то разбирающее мысль на впечатления, уводящие от самой мысли. Шукшин сам уходит и нас уводит. Но мы, со следа его сойдя, на свою дорогу выйти можем. Важно, что след есть, дорога указана».
Слово и взгляд у Василия Макаровича особые, г и п н о т и з и р у ю щ и е. Это многие подмечали. За этим л и ч н о с т ь, ее обаяние, аура. Юрий Скоп в «Совсем немногих словах о друге» отдельную часть отводит глазам Василия Макаровича. И начинает ее: «Я научился у него слышать в себе свою Родину. Это от него перешло ко мне всякое понимание того, что без д у ш е в н о г о (индивидуально-интимного. – Е. Ч.) не может быть д у х о в н о г о (общественно значимого. – Е. П.). И наоборот». Дальше: «…сейчас …когда Макарыча больше нет… И есть только память, из глубины которой глядят и глядят на меня внимательно его, ш у к ш и н с к и е, глаза…
Вы знаете, я только теперь понял, как он смотрел. Раньше мне почему-то казалось, что он смотрит на жизнь сквозь какой-то постоянно присутствующий во взгляде прищур. А на самом-то деле – прищура не было. Он смотрел на мир очень открыто. Зато открытость эта, зафокусированная внутренним вниманием, и рождала потом ощущение внешнего прищура. Это что- то вроде встречных фар на ночном шоссе. Они полны светом, и ты щуришься, а кажется, что уменьшается встречный свет. Шукшин в г л я д ы в а л с я в жизнь, а это совсем другое, чем просто смотреть, или видеть».
И слово, и взгляд Василия Макаровича могли находить и обнажать скрытую душевную боль и врачевать душу. А это может только тот, кто сам знает, «почем фунт лиха». Не случайно это признание: «Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог, но сам больной». Но одни могли только обнажать, нащупав самые скрытые «язвы». Как, например, Достоевский или Успенский. Но были и великие врачеватели, обвораживающие, обволакивающие, утешающие и успокаивающие. Писатели-психотерапевты: Тургенев, Бунин, Федор Сологуб, Цветаева… И здесь же Шукшин.
Много у В. М. Шукшина сказано о душевном спокойствии и мудрости. Этим «состояниям души» явно и неявно противопоставляются суетность, всезнайство с одной стороны и боль, тоска – с другой стороны. В центре внимания – образ мудрого русского старика, «который доживает жизнь, но еще крепок», у которого «голова свежа» и который «жизнь прошел и знает вдоль и поперек». Но чтобы понять этот образ, нужно вспомнить и следующие высказывания Василия Макаровича: «Не старость сама по себе уважается, а прожитая жизнь. Если она была». Значит, дело не в старости, как особом возрасте, не в количестве лет. А в жизни. Мудрость и жизнь, жизненный опыт опять же как особый д а р. Вот Шукшин говорит о С. А. Герасимове: «…с большим опытом пришло нечто весьма мудрое – спокойствие». Незадолго до смерти Шукшин говорит о своем впечатлении, которое произвела на него встреча с Шолоховым: «Скажу откровенно; Шолохов для меня – открытие… Каким я его увидел при личной встрече? Очень глубоким, мудрым, простым. Для меня Шолохов – олицетворение летописца… Он внушил, нет, не словами, а собственным примером, своим присутствием и в Вешенской и в большой литературе, что не нужно спешить, гнаться за рекордами в искусстве, что надо искать тишины и спокойствия, чтобы глубоко обдумывать судьбы народные». Вспоминая о фильме Марлена Хуциева «Мне двадцать лет», Шукшин рассказывает: «…я ушел с фильма настроенный крепко подумать о людях, о своей жизни, о жизни вообще. Об искусстве. Такое было ощущение, как будто хорошим летним вечером поговорил на берегу реки с умным стариком. И вот он ушел, а ты сидишь и думаешь. А река течет себе, и заря уж гаснет, а тут охватило нетерпеливое желание до чего-то все-таки додуматься. Люблю такое настроение, берегу его, редко оно случается – все дела, заботы, все некогда, торопимся». Да, суета, суетное стремление ухватить от всего понемножку… Это не жизнь. А образ мудрого старика рядом (как бы дополняется) с образом реки. Случайно ли это сочетание, отражает ли оно просто некое лирическое настроение Василия Макаровича или нечто большее? Нам помогает осознать данное Василий Белов. В своем «Ладе» он пишет: «Образ реки в народной поэзии так стоек, что с отмиранием одного жанра тотчас же поселяется в новом, рожденном тем или другим временем. Как и всякий иной, этот образ неподвластен анализу, разбору, объяснению. Впрочем, анализируй его сколько хочешь, разбирай по косточкам и объясняй сколько угодно – он не будет этому сопротивляться. Но никогда не раскроется до конца, всегда оставит за собой право жить, не поддается препарированию, удивляя своего потрошителя новыми безднами необъяснимого… Река течет. Она то мерцает на солнышке, то пузырится на дождике, то покрывается льдом и заносится снегом, то разливается, то ворочает льдинами… Что-то родное, вечно меняющееся, беспечно и непрямо текущее, обновляющееся каждый момент и никогда не кончающееся, связывающее ныне живущих с уже умершими и еще не рожденными, мерещится и слышится в токе воды. Слышится всем. Но каждый воспринимает образ текущей воды по-своему».
«Река жизни сущего» – с а м с а р а – наиболее сложное понятие древнеиндийской философии. Это и «огненно-водный цикл», и «перетекание душ» (говорят о «переселении душ» или «метемпсихозе»), подчиняющееся высшему нравственному закону к а р м ы (см.: «Чхандогья упанишады»), взаимосвязь всего живого и живущего. Самсара проходит через каждую отдельную душу. Шум этой реки (или этого «пламени» – таджас – «огненной реки») может в себе услышать каждый, достаточно пальцами зажать уши. Начало и конец самсары неуловимы, как начало и конец рождения и смерти. Плачет Дашаратхи и причитает: «Тоска по Раме – бездонная пучина, разлука с Ситой – водная зыбь, вздохи – колыханье волн, всхлипывания – мутная пена. Простирания рук – всплески рыб, плач – морской гул. Спутанные волосы – водоросли. Кайкейи – подводный огонь. Потоки моих слез – источники, слова – горбуньи – акулы. Добродетели, принудившие Раму уйти в изгнание, – прекрасные берега. Этот океан скорби, в который меня погрузила разлука с Рамой, увы! – живому мне уж не пересечь, о Каушалья!» («Рамаяна»). Вот куда уводит сочетание двух образов реки и мудрого старца.
Василий Макарович говорит как об «опасности» или «постыдной легкомысленности» о болтунах, трепачах и лгунах и противопоставляет им людей, подлинно интеллигентных («интеллигентность – это мудрость и совестливость»). Интеллигенты – это, люди н а с т о я щ и е. Но верно и обратное – настоящие люди – и н т е л л и г е н т ы. Поэтому не является неожиданным утверждение о Разине: «Если в понятие интеллигентности входит болезненная совестливость и способность страдать чужим страданием, он был глубоко интеллигентным человеком». Вот Шукшин призывает: «…вслушайтесь – искус-ство! Искусство – так сказать, чтоб тебя поняли. Молча поняли и молча же сказали «спасибо». Молча… лишь взглядом… Ведь не врем же мы!» «Слушай умных людей, не болтунов, а умных. Сумеешь понять, кто умный – «выйдешь в люди»…», понимай – станешь настоящим человеком. И опять образ мудрого старика (в общем подтексте – мудрость не выбирает место для жительства): «…но и там, и там есть такие вот душевные, красивые люди, как эти старики. Один, наверно, не прочитал за всю жизнь ни одной книжки, другой – «одолел» Гегеля, Маркса… Пропасть! Но есть нечто, что делает их очень близкими – Человечность. Уверен, они сразу бы нашли общий язык. Им было бы интересно друг с другом. И зарю они, наверно, одинаково любят: мудро, спокойно, молча. И людей понимают одинаково: пустого человека, как он ни крутись, раскусят. И дурака-начальника встречают одинаково: немножко весело, немножко грустно, но, в общем, терпимо. Что делать?» Настоящие, хорошие люди – «интеллигенты духа». И дело даже не в возрасте. Так, Иван Расторгуев (лет сорок ему? Нюре он снится в облике Стеньки Разина…) и профессор-языковед, -мудрый старик, скоро и просто находят взаимный интерес друг к другу. А сын профессора, наверное, одногодок и даже «тезка» Ивана, социолог с «цифрами», остается в стороне.
Молчаливое понимание сущего далеко от суесловия. Это разные полюсы – дух и бездуховность, интеллигентность и «мещанство», культура и «культурный суррогат». По разным полюсам разведены и «экономист, знаток социальных явлений с цифрами в руках», и другой, который в любом исторически неизбежном процессе умеет разглядеть боль и драматизм человеческих судеб и «только так и в этом смысле касается проблемы».
Молчание – это тоже состояние души растревоженной. Как у Марины Цветаевой:
А мне от куста – не шуми
Минуточку, мир человечий!
– А мне от куста – тишины:
Той, между молчаньем и речью…
Когда человек молчит, чаще всего говорит его совесть. Тогда замолкает и бог. Не нужно никаких иных «инстанций», кроме совести. Но и с ней есть л а д и р а з л а д. А совестно бывает не только за себя, но и за других.
Человек совестливый «…всем существом тянется к прекрасному, силится душой своей, тонкой и поэтичной, обнаружить в жизни гармонию», как Пашка Колокольников. Но «герой» почему-то не он, а «демагог чувств».
Душа, страдание и боль, сострадание и тоска, заветные надежды и заветные страхи, п р а з д н и к души, наконец… Почему все это нужно чем-то объяснять? Разве все это лишь «отражение» чего-то «объективного» и само по себе не имеет ценности и значимости? Разве когда-нибудь человек перестанет с т р а д а т ь? «История души» разве не может быть ц е л ь ю искусства? О б ъ е к т о м дум?
Марк Аврелий в Десятой книге «Размышлений» пишет: «Будешь ли ты когда, душа, добротной, простой, единой, нагой, более явственной, чем облегающее тебя тело? Отведаешь ли ты когда дружественного и готового к лишению душевного склада? Будешь ли ты когда наполненной, далекой от нужды, ничего не алчущей, не желающей ничего одушевленного или неодушевленного ради вкушения наслаждений: ни времени, чтобы вкушать их далее, ни мест каких-либо и краев, ни воздушного благорастворения, ни человеческого благорасположения. Когда удовольствуешься ты тем, что есть, и возрадуешься всему, что здесь, когда уверуешься, что и все у тебя хорошо, и что все это от богов, и будет хорошо все, что им мило, что дадут они еще во спасение существа совершенного, благого, прекрасного, все порождающего и соединяющего, окружающего, приемлющего то, что распадается, чтобы вновь породить подобное. Ты будешь ли когда тою, которая и с богами, и с людьми может в одном граде жить, ни в чем их не укоряя и от них не заслуживая осуждения?»
Не пережил В. М. Шукшин «горячей точки» своей биографии. Умер в одночасье. Не обрел желаемого покоя и воли. И не вернулся, как обещал, на свою «малую родину». «И всякий раз, когда фильм подходит к концу, я обнаруживаю с грустью, что бежал слишком скоро, радость кончилась, мое движение прекратилось». Он жил ц е л ь н о, но были «куски» в этой жизни, где «…надо импровизировать как бог на душу положит, и важно не вспугнуть эту импровизацию». Ибо «есть моменты в игре, которые касаются неких сокровенных сторон души». В поисках нравственных ценностей, прочных и верных ориентиров в жизни он призывал «не прямо учить, а через какую-то судьбу, характер, через гибель даже… через гибель…». Существен штрих в этих высказываниях Шукшина: «Момент, или, так сказать, вопрос расплаты за содеянное, меня очень ну вот по-живому волнует. Очевидно, мы за все в самом деле должны платить в жизни, и при всем при том, что нам иногда жаль прямо так глядеть и видеть, как человек погибает, но сила разума нам должна говорить, что если случилось непоправимое, что если случилось необратимое, приход к такому финалу, к такому концу жизни должен состояться все равно; он должен состояться, и он состоялся».
Может быть, озарение, как жить, пришло слишком поздно. Слишком долго «в мыслях подкрадывался» к тому, что «самое дорогое в жизни – постижение, для чего нужно определенное стечение обстоятельств и прежде всего – покой» (хотя это и «древняя мысль» и не его, Василия Макаровича Шукшина, «изобретение»).
Вещим оказалось признание: «Так у меня вышло к сорока годам, что я – ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже не между двух стульев, а скорей так: одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как страшновато. Долго в таком положении пребывать нельзя, я знаю – упадешь. Не падения страшусь (какое падение? откуда?) – очень уж, действительно, неудобно. Но и в этом моем положении есть свои „плюсы“ (з а х о т е л о с ь в д р у г н а п и с а т ь – ф л ю с ы). От сравнений всяческих „оттуда- – сюда“ и „отсюда – туда“ невольно приходят мысли не только о „деревне“ и о „городе“ – о России».
Сильные идут дальше. И «хорошие», и «плохие» – все в одну сторону. Неожиданно вспоминается стихотворение-притча И. А. Бунина «Святогор и Илья». Выехали два брата-богатыря Святогор и Илья на гривистых конях на косматых в серо поле прогуляться и размяться и увидели гроб, да большой:
Гроб глубокий, из дуба долбленный,
С черной крышей, тяжелой, томленой,
Вот и поднял ее Святогор,
Лег, накрылся и шутит: «А впору!
Помоги-ка, Илья, Святогору
Снова выйти на божий простор!»
Обнял крышку Илья, усмехнулся,
Во всю грузную печень надулся.
Двинул кверху… Да нет, погоди!
«Ты мечом!» – слышен голос из гроба.
Он за меч, – занимается злоба,
Загорается сердце в груди,
Но и меч не берет: с виду рубит,
Да не делает дела, а губит:
Где ударит – там обруч готов,
Нарастает железная скрепа:
Не подняться из гробного склепа
Святогору во веки веков!
Кинул биться Илья – божья воля.
Едет прочь вдоль широкого поля,
Утирает слезу… Отняла
Русской силы Земля половину: