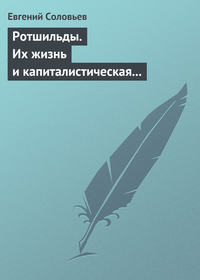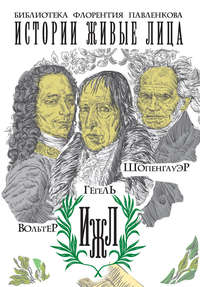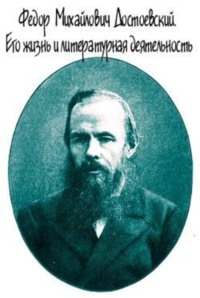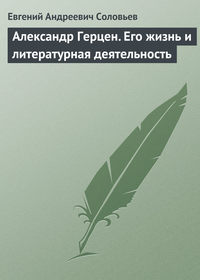Джон Мильтон. Его жизнь и литературная деятельность
Всмотримся, однако, поближе в университетскую жизнь Мильтона. В Кембридже господствовали в то далекое время строгие статуты Елизаветы, стремившиеся регулировать жизнь наставников и воспитанников до мельчайших подробностей. Воспитанники должны прилично одеваться, вести скромную и нравственную жизнь и беспрекословно слушаться старших. Это правило стояло, разумеется, во главе всех остальных и сопровождалось различными вариантами применения, где были указаны средства возвращать овцу заблудшую на путь истинный. Выговор как легчайшее наказание практиковался особенно часто; затем следовали денежные штрафы, временное лишение свободы – попросту арест, а в исключительных случаях допускалось и изгнание неисправимого. Были и телесные наказания, но они уже выходили в описываемую эпоху из моды, хотя статуты допускают их для всех студентов не старше 18 лет и состоящих в звании «under graduates» – так сказать, воспитанников приготовительного университетского пансионата. Так как университет сам по себе составлял как бы маленькое государство в государстве, со своей собственной администрацией, своими представителями в парламенте, со специальными законами и обычаями, то и территория его строго была разграничена от территории города Кембриджа, причем статуты требовали, чтобы студенты без крайней необходимости не переходили за пределы университетских владений, рискуя в противном случае подвергнуться денежному взысканию или какой-нибудь другой пене. Распоряжение это было вызвано желанием сохранить студенческие нравы в должной чистоте и благопристойности. День воспитанника был урегулирован следующим образом:
Все должны были вставать в 5 часов утра по звонку колокола и отправляться, не медля ни минуты, в капеллу, где совершалась обедня, не очень, впрочем, продолжительная – около часу. После обедни завтракали в общих коллегиальных залах и затем приступали к научным занятиям. Занятия эти были двух родов: коллегиальные и общеуниверситетские. Первые проходили под руководством туторов-наставников, вторые – профессоров. Занятия с профессорами похожи были на наши современные университетские лекции; тутор же играл преимущественно роль преподавателя и репетитора. Он руководил практическими занятиями. Круг предметов в то время не отличался обширностью; на первом плане стояли, конечно, латинский, греческий и еврейский языки, причем от студентов требовалось, чтобы они не ограничивались чтением и письмом на этих языках, но и постоянно упражнялись в разговорах на них. Было даже постановлено, чтобы они и в свободное время, на прогулках, например, не смели говорить между собою иначе, как на одном из древних языков. Кроме латинского, греческого и еврейского, проходились еще логика и философия. Математикой в ту эпоху интересовались настолько мало, что она даже и не входила в круг университетского преподавания и изучалась лишь в низших и средних школах. После четырех – пяти часов занятий по указанным предметам студенты опять собирались в столовой зале, где им предлагался обед. Подкрепив себя таким образом, они возвращались в аудиторию, но уже ненадолго, на один или два часа, и слушали диспуты. Затем время отдавалось в их полное распоряжение с единственным обязательством быть дома не позже девяти часов зимою и десяти летом.
Несмотря, однако, на все строгости устава и на особливую заботливость, проявляемую им о нравственности студентов, – поведение этих последних далеко не отличалось добродетелью. Большинство курили, многие пили, иные чувствовали особое пристрастие к картам, за которыми и проводили целые ночи, и прямо из-за карточного стола отправлялись слушать мессу. Три соседние с университетом таверны постоянно были наполнены посетителями, и многие воспитанники сохранили гораздо больше воспоминаний о кутежах, чем о лекциях профессоров, несмотря на всю их несомненную ученость. Существовали, разумеется, и другие забавы, к которым английское юношество тогда, как и теперь, питало большое пристрастие. Забавы эти заключались, главным образом, в физических упражнениях – верховой езде, катанье на лодке, боксе, игре в мяч. Устраивались всевозможные состязания, во время которых молодежь проявляла «гораздо больше энергии и предприимчивости, чем при философских диспутах». В этом отношении мало что изменилось со времени Мильтона: так, еще очень недавно лучшие английские педагоги признавали, что «наши университеты выпускают прекрасных боксеров».
Однако, как ни своеобразна и замкнута была жизнь университета, внешние волнения не могли не влиять на нее. Вне шли споры между протестантами и католиками, пуританами и защитниками англиканской церкви. Эти споры крепли и ожесточались со дня на день, взаимная ненависть и неприязнь едва прятались уже под страхом и принуждением, нетерпеливо ожидая минуты, когда можно будет проявиться с оружием в руках.
Пуританский дух в Кембридже был довольно силен. Встречалось немало студентов, которые старались держать себя даже скромнее, чем того требовал устав, избегали развлечений, все свое время проводили за набожным чтением Библии и «с большим неудовольствием посещали мессу». Впрочем, к мессе большинство молодежи, кроме искренних англикан, относились очень непочтительно, позволяя себе иногда кощунственные выходки. Многие из наставников одинаково не отличались привязанностью к господствующей церкви и не особенно строго наблюдали за религиозным воспитанием юношества, предоставляя каждому право самому следить за своим отношением к Богу и церкви. Вообще Кембридж далеко не был таким оплотом престола и веры, как его собрат – Оксфордский университет, что зависело среди прочего и от того, что в Оксфорде воспитывались главным образом представители аристократии, а в Кембридже – третьего сословия.
В университете Мильтон ни в чем не изменил привычкам, приобретенным в детские годы, усердно занимался весь день и часть ночи, несмотря на то, что его слабые от рождения глаза не выдерживали таких усиленных занятий и постоянно протестовали. Как юноша слишком углубленный в книги, он, разумеется, держался в стороне от товарищей и близко не сходился ни с кем. Его гораздо больше интересовали Цицерон и Софокл, чем бокс или верховая езда. Кабинетные наклонности проявились в нем чрезвычайно рано, а близкие к нему люди скорее поощряли, чем противодействовали им. Из своих комнат он почти никуда не выходил, разве на лекции или на непродолжительную прогулку, предпочитая всему одиночество и размышление. Не похоже, чтобы в университете у него были друзья; в его характере не было ни общительности, ни добродушия; он не умел ладить со всеми, быть занимательным и интересным для всех. Слишком серьезный, он вместе с тем был преисполнен сознанием собственного достоинства и дарований, высоко ставил самого себя, быть может, даже слишком высоко. Науку он любил, но не мог терпеть университета. Всегда отзывался он о нем очень непочтительно, и, вероятно, в эти юношеские годы зародился в нем смелый проект коренного преобразования университетской науки – проект, написанный им лишь в 1644 году. В этом проекте он предлагал обучать учеников всем наукам, всем искусствам и даже всем добродетелям. «Учитель, – говорит он, – обладающий достаточным талантом и красноречием, мог бы в короткое время развить в своих учениках невероятное мужество и прилежание, вливая в их юные сердца такой обильный и благородный жар, что без сомнения многие из них сделались бы непременно знаменитыми людьми, не имеющими себе равных». Между тем университет отталкивал от себя его гордую, непокладистую натуру, отталкивал легкомыслием своих нравов, своими интригами и сплетнями. Большинство его товарищей вели жизнь рассеянную и, несмотря на строгий устав, усердно потягивали винцо в своих комнатах. Студенты старались отличиться друг перед другом, но не в области науки, а в физических упражнениях, гордились своей силой и ловкостью; наука же оставалась на втором плане. Мильтон почти не принимал участия в их забавах: они были для него чуждыми, не менее чуждыми, чем и официальная университетская наука. Эта последняя отталкивала его от себя своей сухостью и схоластичностью. Дальше комментариев к Аристотелю она не ушла в то время, а эти вечные комментарии едва ли могут удовлетворить живого человека.
Поэтическая деятельность шла между тем своим чередом. Начав с переложения псалмов, Мильтон перешел к сонетам и элегиям, слишком, однако, незначительным, чтобы стоило останавливаться на них. Несомненно, однако, что и в это время под грудой все возраставших знаний, не умирая, струился чистый источник поэтического вдохновения. Научные занятия, анализ не убили в Мильтоне творчества: ученый и поэт уживались в нем мирно и один содействовал славе другого.
Семь долгих лет тянулся университетский курс. За это время Англия вынесла страшную чуму, приветствовала восшествие на престол нового короля, успела разочароваться в нем и мало-помалу собиралась с силами и мужеством, чтобы восстановить свои древние права и преимущества свободной страны.
Глава II
Жизнь в деревне. – Сонеты. – «Комус». – Комус и Фальстаф.
Семь лет университетской науки, комментарии и лекции не только не удовлетворили, а лишь разожгли страсть Мильтона к умственным занятиям. В искреннем восторге восклицает он: «Как счастлив тот, кто не должен трепаться по судам и хлопотать о чужих делах, чьи высокие думы не прерываются ежеминутно мелочными заботами о семье и хозяйстве, кто не напрягает своего остроумия, чтобы вызвать милостивую улыбку своего господина, кто не знает по утрам тоски и болезни после развратной ночи, кто видит перед собой долгую вереницу дней таких же спокойных, как сегодняшний, посвященных любимым занятиям в обществе неизменных и лучших друзей каждого – его книг и рукописей!» В нем была неугасимая жажда любознательности и творчества; обстоятельства жизни сложились так, что редко вызывали его на свет божий из кабинета, где он провел целые годы, и, наверное, самые счастливые годы. Он окончил университет в 1631 году и немедленно уже стал строить план дальнейших работ. Он особенно радовался тому, что может уехать теперь в имение отца и там, «на покое и просторе, среди пения птиц и аромата цветов, вызывать перед собой вечно живые образы древности и упиваться красотой классической музы». В это время ему исполнилось 23 года. Отец, по-видимому, задумывал женить его, но самому Мильтону даже и не приходила в голову подобная мысль. Матримониальные проекты так и остались надолго неосуществленными.
Целых четыре года провел он в деревне. Он любил, по его собственным словам, «слушать жаворонка, который взвивается на высоту и будит своим пением задумчивую ночь до тех пор, пока не встанет полосатая заря; земледельца, посвистывающего над своей бороздой; молочницу, распевающую от чистого сердца; косца, натачивающего косу в долине под боярышником; любил смотреть на майские пляски и увеселения в деревне, любоваться пышными процессиями и жужжанием снующей, деловой толпы в украшенных башнями городах», куда, кстати сказать, он изредка наезжал.
В нем – англичанине, к тому же поэте – была искренняя, здоровая любовь к природе, к деревенской жизни. Ничто не представлялось ему более прекрасным и возвышенным, чем гроза с громом и молнией, разразившаяся над уставшими от летнего зноя полями, утренняя заря, распускающая на небе свои огненно-пурпурные лепестки, закат и восход солнца. Религиозное чувство создавало из этих обычных явлений будущие образы «Потерянного Рая»; то грозно негодующее, то бесконечно кроткое смотрело на Мильтона Божество «в своей царственной одежде, усеянной звездами». Он находил поэзию как в бурных, так и в самых обычных явлениях земли и неба, и годы, проведенные в деревне, всегда называл счастливейшими в своей жизни.
Гортон, где он жил, был прелестным местечком. Расположенный на холме, на берегу веселой речки, окруженный рощами и садами, за которыми тянулись поля и бесконечные, вечнозеленые пастбища, он как нельзя лучше отвечал всем требованиям поэтического творчества. Мир и тишина царили в нем, редкие посещения соседей не тревожили хозяев, а лишь развлекали их. Прогулки, рыбная ловля, верховая езда – словом, все обычные удовольствия английского сельского джентльмена средней руки находились в полном распоряжении Мильтона.
Он, повторяю, был доволен.
Надо, впрочем, заметить, что избранный им для себя способ жизни является далеко не обычным. По английским понятиям, молодой, здоровый человек двадцати с небольшим лет не должен был жить так. Требовались определенные занятия и заработок и как венец человеческих усилий – счастье семейного очага в собственном доме с женою и детьми. Но Мильтон не избрал для себя никакой профессии, которая позволила бы ему делать деньги. Он не хотел быть адвокатом, как отец, купцом, как его родственники. Он мечтал и учился и в глазах своих соседей являлся чудаком. Его кабинетных усиленных занятий не видел никто, но все видели его во время прогулок или деревенских развлечений. Про ленивого сына м-ра Мильтона-старшего шли по всему округу не особенно лестные толки, но, так как м-р Мильтон-младший, будущий великий поэт, не обращал на эти толки ни малейшего внимания, то они и прекратились в скором времени. Что же поддерживало и вдохновляло нашего героя, что позволило ему отступить от обычной тропы и идти по своей собственной, не обращая внимания на окружающее? Отец, как мы видели, горячо его любил и предоставил ему возможность жить как заблагорассудится; Мильтон мог не думать о средствах не только на завтрашний день, но и вообще на будущее. Однако не в этом заключалась главная причина его необычного образа жизни. Главная причина лежала не вне человека, а внутри его, не в деньгах, получаемых от отца, а в вере в свое призвание поэта. В этом – вся суть, в этом – руководящая нить для понимания всей жизни Мильтона. Он рано, еще в университете, угадал свое назначение и без устали служил ему вплоть до могилы. Он не хотел сделаться адвокатом, потому что знал, что будет плохим законником и великим поэтом; впоследствии, оставив сонеты и поэмы ради политических памфлетов, он все же не забыл о главном своем призвании и издал первый сборник своих произведений, закончив его словами: «baccare frontem cingite ne vato noceat mala lingua future» («обвейте голову священной повязкой и молчите, чтобы будущему пророку не повредило неблагоприятное слово»).
Вера в свое великое назначение наполняла сердце Мильтона гордостью, но это же назначение налагало на него обязательства, выполнить которые было бы не под силу обыкновенному смертному. В глазах Мильтона, поэт – жрец и пророк, творчество – священнодействие. Все равно как нельзя приступать к совершению таинства с грязными и мелкими помыслами в душе, так нельзя творить, не чувствуя в себе беспредельного, мощного стремления к истине, не сознавая себя выше всего земного. Вечное и безусловное (Божество и Добродетель) – вот она, истинная область поэзии, ее святая святых, куда можно войти лишь после поста и молитвы, усиленного искуса. Лишь из высокой души, пренебрегающей обычными наслаждениями чувственности и тщеславия, проистекают высокие мысли, лишь благородный дух способен создать благородные и прекрасные вещи. Нельзя отделять поэта от человека. Только великий и мужественный человек может быть великим и мужественным поэтом. Поэзия – не развлечение, не игра взволнованного духа, – она требует высшей духовности, высшего самоотречения. Творчество – подвиг, подобный тем, которые совершались древними пророками для спасения своего народа.
Так смотрел Мильтон на поэзию.
В его представлении образы поэта и древне-библейского пророка были тождественны. Сознавая в себе творческую могучую силу, он не только не торопился приступать к деятельности, а, напротив, откладывал, и на возможно отдаленный срок, на годы и даже на десятки лет растягивая тяжелый период искуса. Он не ошибся: вещь, прославившая его во веки веков, сделавшая его имя гордостью Англии и человечества, была создана им лишь под старость. Мильтон написал «Потерянный Рай» шестидесятилетним стариком.
Поэт служит истине. Он не должен, он не смеет отвлекаться от этой высокой задачи, гоняясь за внешней красотой и блестящими эффектами: «Лучезарная богиня» – Истина – его единственная муза, наполняющая душу его непреоборимым мужеством. Смерть за свою веру – венец поэта, его право на вечную жизнь.
Поэт не может не быть гражданином. Его вера – не отвлеченное признание, не мечта взволнованного воображения. Он служит ей своим творчеством, своими поступками, всей своей жизнью, наконец. Он, гордый и сильный, встанет на ее защиту, если увидит ее в грязи и унижении. Могучими проклятиями наградит он своих врагов, наведет на них клеймо позора, сделает имя их презренным для будущих веков. Он не должен таить в себе ни гнева, ни ненависти; как пророк, должен он являться перед толпой, не зная и не думая о том, что та сделает с ним, осыплет ли его камнями или пойдет за ним туда, где светит неугасимая истина, где живет лучезарная богиня!
Понятно теперь, что он не стал ни купцом, ни адвокатом и с презрением слушал толки о своем безделье, которого и не было на самом деле.
Он работал с упорством гения, не падая духом, не спеша, твердо веруя, что обетованная страна откроется ему рано или поздно, сияющая, радостная, способная утолить голод и жажду. Ни разу не возвел он себе медного змея и не поклонялся ему. Гордо и смело шел он вперед, не ища поддержки ни в ком, не требуя поощрений и аплодисментов.
Он верил в себя.
Жажда знания влекла его к самым разнообразным занятиям. Он изучал историю, литературу и богословие. Он читал и перечитывал древних авторов; но главная работа духа была устремлена на собственное совершенствование. «Не, – пишет он, – who would not be frustated in his hope to write here after in laudable things ought himself to be a true poem», то есть «тот, кто не хочет разочарования в своей надежде создать вещь, достойную славы, должен сам быть истинной поэмой»! Таково знамя, которое он избрал для себя. Мужественно бился он под ним всю жизнь, ни разу не выронив его из своих рук.
Не буду перечислять всего написанного Мильтоном за время его деревенского уединения. Позволю себе только изложить содержание почти неизвестного у нас его драматического произведения «Комус» – произведения, которое многие, например наш Пушкин, предпочитают даже «Раю».
При изложении я буду держаться Тэна и Массона.
Содержание «Комуса» следующее: спустившийся на землю среди дремучих лесов Дух-покровитель (The Attendant Spirit) произносит следующую оду: «Моя отчизна там, у звездного порога дворца Зевса. Я живу среди бессмертных образов, эфирных духов, которые пребывают, лучезарные, в ясных сферах безмятежного и чистого воздуха, высоко-высоко над копотью и суетою темного закоулка, называемого у людей землею, – этого грязного стойла, где, сбившись в кучу и замкнувшись в круг своих низких помыслов, люди борются за сохранение хрупкой жизни и напрягают все силы в лихорадочной борьбе. Они забыли венец, которым после различных превратностей добродетель награждает своих верных слуг, приведя их перед лица богов, восседающих на священных престолах».
Разумеется, этот монолог написан стихами – и какими стихами! – могучими, плавными, как течение громадной реки, свободно катящей свои воды среди мягких берегов. Зритель переносится за пределы действительного мира: мифология древних и христианство одинаково дали материал для фантазии Мильтона.
Дух оставил свои небесные чертоги, чтобы защитить на земле тех, кто не забыл еще о добродетели, но может утерять бодрость, окруженный врагами и соблазнами. Ведь здесь, в лесу, живет сын волшебницы Цирцеи, сладострастный Комус, бог возмущенной плоти и невоздержанности, удалившийся сюда, в эти лесные трущобы, чтобы свободно предаваться своим разнузданным оргиям. В тот час, когда озера и моря с чешуйчатыми стадами своих обитателей водят вокруг луны волнистые хороводы, меж тем как на песке и потемневших уступах прыгают проворные феи и суетливые карлики, Комус пляшет и потрясает факелами среди вопля и криков своей свиты. Вся эта свита набрана им самим из людей, которых он опоил волшебным напитком сладострастия, и они стали зверями. Но вернемся к рассказу.
Дух-покровитель спустился на землю, а в это время по извилистым тропинкам нахмурившегося леса, где колеблющаяся почва грозит заблудившемуся путнику, бродит благородная дама, потерявшая из виду двух своих братьев. Издали слышит она дикие крики Комуса, рев его свиты, и ужас овладевает ею. Она становится на колени и среди туманных очертаний, проносящихся по бледному ночному небу, видит белокурую Надежду, ясноокую (pure-eyed) Веру и Непорочность – таинственных небесных стражей, бодрствующих над ее жизнью и честью.
«Добро пожаловать, о ясноокая Вера, белорукая (white-handed) Надежда! – воскликнула дама. – Ты, ангел, летающий над моей головой, осеняя меня золотыми крыльями; добро пожаловать и ты, святая, незапятнанная Непорочность. Я вижу ясно вас и верю теперь, что верховное благо терпит злых тварей лишь для того, чтобы они были покорными орудиями его справедливого мщения, а для охранения моей жизни и чести пошлет светлого ангела, раз это будет нужно…»
Вдали в эту минуту она различает свет. То «горное облако повернулось к ночи своими серебряными краями и льет свет между густою тенью листьев». Обрадованная светом, благородная дама зовет своих братьев. Нежный и торжественный звук ее сильного голоса поднимается, как чистые, драгоценные благовония, и разносится в ночном воздухе над долинами, которые вышиты узорами из фиалок, и достигает слуха развратного бога, порождая в нем восторженную любовь. Он прибегает, одетый жрецом. Звуки очаровали его, и он говорит:
«Возможно ли, чтобы смертный прах изливал прелесть этих божественных звуков? Нет, в ее груди несомненно живет что-то божественное. Как сладко текут чудные звуки на крыльях молчания под опустевшим сводом ночи! Я слышал часто, как моя мать Цирцея, окруженная наядами, увенчанными цветами, собирая целебные травы и смертоносный яд, увлекала пением своим пленную душу в блаженный Элизий; Сцилла плакала, волны прекращали свой вой и умолкали, внимательно насторожившись, а жестокая Харибда шепотом выражала тихое одобрение… Но такого могущественного и глубокого восторга, такой неги сладкого счастья я не испытывал еще никогда».
Даже в сердце развратного Комуса голос добродетели вызывает какое-то сладкое и вместе с тем могучее ощущение, какого он не испытывал еще никогда. Но все же обманом уводит он благородную даму в свои пышные чертоги, усаживает ее, неподвижную, во дворце за изысканный стол. Он убеждает ее освежиться и глотнуть из бокала, где налит сладчайший напиток, лучший нектар. Но дама отказывается, предчувствуя соблазн. Увлеченный ею и пылая любовью, Комус старается уговорить ее: он знает, что один глоток очарованного напитка даст ему полную власть над ней. Его речь, построенная по всем правилам схоластической логики, отличается, однако, замечательной красотой и шекспировской силой.
«Если бы весь свет, – говорит он, – держался правил умеренности, если бы никто ничего не пил, кроме прозрачной воды, и не надевал бы роскошной одежды, Создатель, разукрасивший землю для счастья и наслаждения, был бы обижен. Разве можно презирать данные им людям богатства, которые неисчерпаемые лежат повсюду. Не мрачными же сторожами земли создал он нас, и зачем нам жить, как пасынкам природы, а не ее возлюбленным детям?»
Но благородная дама сопротивляется, и стих поэта звучит при этом геройским негодованием и клеймит позором предложение искусителя:
«Когда разврат нечистыми взглядами, нескромными движениями и грязным языком, но особенно гнусными и многогрешными делами заражает человека мерзостью до глубины души, – тогда, умирая от постоянного соприкосновения с ним, душа разлагается, хоронит себя в теле и принимает скотоподобный образ до тех пор, пока не утратит окончательно божественного характера своего первоначального бытия. Так тяжелая и сырая погребальная тень, которую нередко мы видим под сводами склепов, сидит запоздалая подле свежей могилы, точно боится оставить облюбованный ею труп!..»
Комус хочет уже прибегнуть к насилию, – но в эту минуту оба брата дамы с обнаженными мечами и Ангел-хранитель врываются в торжественную залу и разгоняют нечестивую толпу. Комус бежит, захватив с собою магический жезл, а дама остается на месте, хотя и спасенная, но заколдованная. Чтобы избавить ее от чар, вызывают Сабрину, благодетельную наяду. Ангел поет:
«Прекрасная Сабрина! Услышь оттуда, где ты сидишь – под зеркальной холодной прозрачной волной, вплетая лилии в янтарные кудри. Услышь ради спасения дорогой чести, услышь, о богиня серебряного озера, и спаси!..»
Легкая, как воздух, поднимается Сабрина с кораллового ложа, и колесница из бирюзы и изумрудов выносит ее к прибрежным тростникам и высаживает среди сырого ивняка и камышей. Почувствовав прикосновение ее холодной целомудренной руки, дама сходит с заколдованного места, оковавшего ее своими чарами. Она спасена.