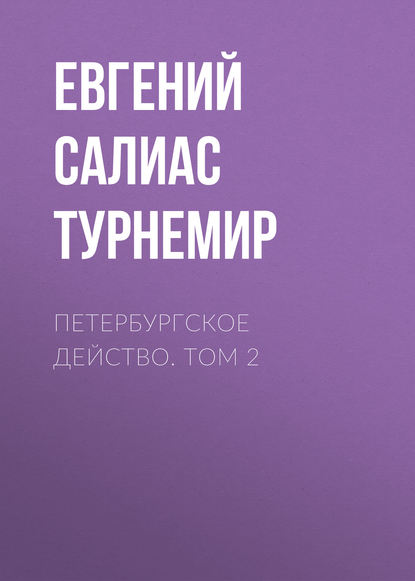По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петербургское действо. Том 2
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Другим адъютантам своим государь, конечно, этого не позволял, но Гудович был его любимец, и за что любил он его – трудно было бы сказать, так как Гудович терпеть не мог военщину, смотры, экзерциции и все подобное. Но зато Гудович был постоянным кавалером Воронцовой и, в сущности, скорее ее адъютантом. Он сопутствовал ей в ее поездках, во всякое время дня и ночи заезжал за ней, увозил и доставлял обратно в дом отца ее. Кроме того, обладая талантом смешно рассказывать разный вздор, он ежедневно передавал ей все городские сплетни. Для Елизаветы Романовны он был незаменимый и неоценимый человек, так как к нему обращалась она откровенно за советом и за разъяснением всего того, чего не понимала. А такового было много на свете!
Гудович входил поэтому к Воронцовой без доклада и всегда заставал ее в любимом костюме, за любимым занятием, то есть за пастилой перед печкой, в салопе. Их отношения были настолько коротки, что Елизавета Романовна не стеснялась принимать приятеля в этом костюме, который был ни ночным, ни дневным.
На этот раз Воронцова, сбросив салоп, начинала уже одеваться, когда в соседней комнате раздались тяжелые шаги Гудовича.
– Ты, что ль, Гудочек? – крикнула она в полурастворенную дверь.
– Нет, не я, – шутливо отвечал Гудович. – А что, нельзя разве? Одеваешься?
– Сейчас, обожди минуту.
– Ладно, только поскорей, мне не время.
– А не время, так входи.
Воронцова, успевшая только обуться, не накинула на себя салопа, а как была… приняла приятеля и продолжала одеваться при нем.
– Я на минутку, – сказал Гудович, входя, – передать тебе хорошую весточку… Такую, Романовна, весть, что ахнешь. Барон послал меня к вам челом бить, просить покорнейше в знак его дружбы и почтения принять от него безделушку на память. А безделушка сия, родимая, в несколько тысяч червонных. Ну, что скажешь, толстая моя?
– Что ж, добрый человек. Очень бы и рада, да ведь сам знаешь, Гудочек, себе дороже будет. Разнесут меня в Питере, заедят разные псы. А уж «ее» – то приятели так и совсем загрызут.
– Ну, на это нам наплевать: ее не ныне завтра мы с рук сбудем. Я на этот счет, Романовна, такой секретец знаю, что ахнешь тоже. Ей-богу! Шлиссельбургскую-то крепость, – тише выговорил Гудович, – очищают, Ивана Антоновича в другое место переводят, а там разные свеженькие решеточки устраивают. А для кого? Как бы ты думала? Для нас, что ли?!
– Неужто? – поняла Воронцова, и лицо ее расплылось в радостной улыбке.
– Верно.
– Как же он мне вчера ничего про это не сказал?
– Он вам une surprise, как говорят французы, готовит. Ну как же, Гольцово-то жертвоприношение?
– Да боюсь, загрызут. Будут говорить, что это за мои какие хлопоты для короля. А ты сам знаешь, я в эти дела не вмешиваюсь. Кабы я была завистливая да падкая на всякие подарки да почести, так нешто бы теперь я была по-старому графиней? Давно бы уж императрицей была.
– Да и будешь, Романовна, будешь, – шутил Гудович. – Толста вот ты малость да пухла лицом, а то бы совсем Марья-Терезья. Ну так как же? Какой Гольцу ответ?
– Не знаю. Скажи ты, Гудочек. Если бы то было варенье какое или хоть какое дешевое колечко… А то, поди, верно, какая-нибудь богатая ривьера.
– Да ривьера не ривьера, а букет алмазный. Но грызть никому тебя не придется, потому что дело все он по-немецки устроил. Букет вы получите, а от кого он – знать никто не будет, и все будут думать, что государь поднес!
– Как же так?
– Уж так все подведено. Только Гольц, я да ты – трое и будем знать, какой такой букет. Заказан он у Позье.
– У Позье? – ухмыльнулась Воронцова.
– А то где ж? Так будет сработан, что такие вещицы разве только у покойной царицы бывали. Заказывал не сам барон, а через какое-то тайное лицо, так что сам Позье не знает, кто заказывал. А получать я пошлю верного человека с особенным билетиком.
– Вот что, – выговорила Воронцова.
– Говорю тебе, по-немецки подведено.
– Ну, это другое дело. А государю можно будет сказать, от кого получила?
– Государю-то, известно бы, можно. Да ведь он, знаешь, Романовна, на язык-то слаб. Лучше уж скажешь ему, что сама купила. Ну, да это видно будет. То-то ахнут наши барыни, как прицепишь букетец-то в несколько тысяч червонных. Ну, прости, я, стало быть, прямо отсюда к Гольцу сказать, что ты благодарствуешь. А встретите его где, то скажите сами: спасибо, мол. Будет вам нужда – я, мол, всей душой готова служить!..
Гудович уж собрался уходить, когда Воронцова остановила его вопросом:
– Гудочек, а как по-твоему, с чего это он меня дарить вздумал?
Гудович почесал в затылке, помолчал и выговорил:
– А по его глупости, матушка, дурак он – вот что. Да и денег фридриховских у него куры не клюют. Надо полагать, что это все ради нашего нового трактата. Ведь на днях трактатец государь подмахнет. Ну, вот Гольц в горячее-то время и одаривает всех; все боится, а ну-ка я, либо принц, либо вот ты остановим государя, отсоветуем. Знает он, что государь – человек добрый, слабодушный, если кто здорово привяжется, да начнет пугать, да стращать, так живо и отговорит. Вот, на мой толк, барону и пришло на ум: ну как Романовну другой кто задарит да она отговаривать учнет, дай лучше я забегу да поднесу ей что-нибудь. Да и кто его знает еще… Сам, вероятно, наживет на букете.
– Как то ись наживет? – не поняла Воронцова. – Что ты?
– Эх ты, простота! Как? Поставит его Фридриху в счет вдвое супротив его цены. Наши послы завсегда это делали. А кроме того, еще скажу, у нас в столице умные свои люди есть, родная, кои думают, что ты простой прикидываешься, а то и дело об европейских событиях с государем толкуешь и по наговору канцлера великие дела вершишь. Гольцу известно, что родитель твой зело против трактата, да и дядя тоже… Ну, думает, подарю Воронцовой букетец – может, и тятенька с дяденькой ласковее будут. Он мне вчерася вечером, придравшись к моему слову, взаймы тысячу червонных дал. Я и не просил, а только охнул при нем, что дорого очень все в Петербурге да что новый мундир мой много стоит. Ну, он мне сейчас и предложил взаймы.
– Так ведь это же взаймы, – заметила Воронцова. – Букет-то нешто тоже придется мне ему после подписания трактата отдавать?!
Гудович рассмеялся:
– А я нешто отдам назад? Э-эх, Романовна, куда ты проста. За то я тебя и люблю. Ну, мне пора…
Вернувшись домой, Гудович нашел у себя адъютанта государя, Перфильева, и приятеля князя Тюфякина. Перфильев был совершенной противоположностью Гудовича.
Он действительно исправлял адъютантскую должность при государе, и довольно мудреную и утомительную. Что бы ни понадобилось, все делал Перфильев. Часто случалось ему по нескольку часов кряду не сходить с лошади. На нем же государь подавал пример, так сказать, всем офицерам гвардии. Так, когда был отдан приказ учиться фехтованию, то Перфильев стал первый вместе с принцем Жоржем брать уроки у Котцау. Когда был принят прусский артикул с ружьем, Перфильев опять-таки первый выучился ему.
Из всех окружающих государя Степан Васильевич Перфильев был самый умный, добрый и дальновидный. Он видел и понимал все совершавшееся на его глазах, и если бы он имел большие влияния на дела, то, конечно, многое бы пошло иначе.
Главная беда состояла в том, что Перфильев, как это часто встречается, считал себя глупей, нежели он был в действительности. Часто, видя что-нибудь, что казалось ему опасным и вредным для правительства государя, он убеждал сам себя, что, стало быть, так надо, что он в этом ничего не смыслит. Перфильев очень бы удивился, если бы ему сказали, что он умнее всей свиты и приближенных государя; очень бы удивился, если бы ему сказали, что принц Жорж глуп, а барон Гольц продувной плут, то есть истинный дипломат. Сам Перфильев бессознательно понимал это, но вместе с тем не доверял своим суждениям.
Зато у честного, умного и прямодушного Степана Васильевича было три слабости, в которых даже его и винить было нельзя. Это были три слабости его времени, его среды и нравов столицы. Он любил редко, но метко выпить. Любил тоже запоем, несколько дней проиграть, не раздеваясь и не умываясь, в карты, до тех пор, покуда не спустит все, что есть в карманах. В-третьих, он был падок на прекрасный пол, но не из среды большого света. Женщины светские для него не существовали. Зато не было в Петербурге ни одной приезжей шведки, итальянки, француженки, с которыми бы Перфильев не был первый друг и приятель.
Но, обладая этими тремя слабостями своего времени, Перфильев отличался от других тем, что знал, где граница, которую порядочный человек не переступает.
Проиграв хотя бы и большие деньги, он не ставил ни одной карты и ни одного гроша в долг, и, таким образом, карточных долгов у него никогда не бывало ни гривны, а, наоборот, за другими пропадали выигранные суммы. Часто видели Перфильева веселым, но никогда пьянство не доходило у него до безобразия и до драки. Напротив того, чем пьяней бывал он, тем остроумнее и забавнее.
Гудович, вернувшись, нашел в своей квартире и друзей, и большой запечатанный пакет. В этом пакете оказалась бумага, по которой он мог получить от голландца-банкира сумму в тысячу червонцев, и, кроме того, была вложена завернутая в бумажку игральная карта с нарисованным на ней букетом.
Перфильев и Тюфякин, близкие люди Гудовича, удивленные разрисованной игральной картой, тотчас приступили к нему с допросом.
– Это, голубчики, денежный документ мне самому. А карта эта – такая штука, что если бы мне дали выбирать, так я бы и тысячу и три тысячи червонцев отдал бы, а карточку эту взял.
– Ну вот! – воскликнул Тюфякин, и глаза его даже блеснули.
– Верно сказываю, денежки мне, а карточка эта не мне. И от кого – сказать уж никак не могу. Я с ней должен послать доверенного человека к бриллиантщику Позье, а он, получив ее, выдаст вещичку алмазную ценою в пять тысяч червонцев, которые он уже вперед за работу получил. Только вы об этом никому ни слова. Дело тайное! По дружбе сказываю. Сам Позье не знает, кто заказал, кто деньги послал, кто за работой приедет и кто его вещицу носить будет. Вот как! – весело болтал Гудович, и, сунув денежный документ в боковой карман, он тщательно запрятал игральную карту в маленький потайной кармашек камзола, застегивавшийся на пуговицу.
– Ну, сегодня я угощаю, – сказал он. – Приезжай через час в «Нишлот», – обернулся он к Перфильеву.
Гудович входил поэтому к Воронцовой без доклада и всегда заставал ее в любимом костюме, за любимым занятием, то есть за пастилой перед печкой, в салопе. Их отношения были настолько коротки, что Елизавета Романовна не стеснялась принимать приятеля в этом костюме, который был ни ночным, ни дневным.
На этот раз Воронцова, сбросив салоп, начинала уже одеваться, когда в соседней комнате раздались тяжелые шаги Гудовича.
– Ты, что ль, Гудочек? – крикнула она в полурастворенную дверь.
– Нет, не я, – шутливо отвечал Гудович. – А что, нельзя разве? Одеваешься?
– Сейчас, обожди минуту.
– Ладно, только поскорей, мне не время.
– А не время, так входи.
Воронцова, успевшая только обуться, не накинула на себя салопа, а как была… приняла приятеля и продолжала одеваться при нем.
– Я на минутку, – сказал Гудович, входя, – передать тебе хорошую весточку… Такую, Романовна, весть, что ахнешь. Барон послал меня к вам челом бить, просить покорнейше в знак его дружбы и почтения принять от него безделушку на память. А безделушка сия, родимая, в несколько тысяч червонных. Ну, что скажешь, толстая моя?
– Что ж, добрый человек. Очень бы и рада, да ведь сам знаешь, Гудочек, себе дороже будет. Разнесут меня в Питере, заедят разные псы. А уж «ее» – то приятели так и совсем загрызут.
– Ну, на это нам наплевать: ее не ныне завтра мы с рук сбудем. Я на этот счет, Романовна, такой секретец знаю, что ахнешь тоже. Ей-богу! Шлиссельбургскую-то крепость, – тише выговорил Гудович, – очищают, Ивана Антоновича в другое место переводят, а там разные свеженькие решеточки устраивают. А для кого? Как бы ты думала? Для нас, что ли?!
– Неужто? – поняла Воронцова, и лицо ее расплылось в радостной улыбке.
– Верно.
– Как же он мне вчера ничего про это не сказал?
– Он вам une surprise, как говорят французы, готовит. Ну как же, Гольцово-то жертвоприношение?
– Да боюсь, загрызут. Будут говорить, что это за мои какие хлопоты для короля. А ты сам знаешь, я в эти дела не вмешиваюсь. Кабы я была завистливая да падкая на всякие подарки да почести, так нешто бы теперь я была по-старому графиней? Давно бы уж императрицей была.
– Да и будешь, Романовна, будешь, – шутил Гудович. – Толста вот ты малость да пухла лицом, а то бы совсем Марья-Терезья. Ну так как же? Какой Гольцу ответ?
– Не знаю. Скажи ты, Гудочек. Если бы то было варенье какое или хоть какое дешевое колечко… А то, поди, верно, какая-нибудь богатая ривьера.
– Да ривьера не ривьера, а букет алмазный. Но грызть никому тебя не придется, потому что дело все он по-немецки устроил. Букет вы получите, а от кого он – знать никто не будет, и все будут думать, что государь поднес!
– Как же так?
– Уж так все подведено. Только Гольц, я да ты – трое и будем знать, какой такой букет. Заказан он у Позье.
– У Позье? – ухмыльнулась Воронцова.
– А то где ж? Так будет сработан, что такие вещицы разве только у покойной царицы бывали. Заказывал не сам барон, а через какое-то тайное лицо, так что сам Позье не знает, кто заказывал. А получать я пошлю верного человека с особенным билетиком.
– Вот что, – выговорила Воронцова.
– Говорю тебе, по-немецки подведено.
– Ну, это другое дело. А государю можно будет сказать, от кого получила?
– Государю-то, известно бы, можно. Да ведь он, знаешь, Романовна, на язык-то слаб. Лучше уж скажешь ему, что сама купила. Ну, да это видно будет. То-то ахнут наши барыни, как прицепишь букетец-то в несколько тысяч червонных. Ну, прости, я, стало быть, прямо отсюда к Гольцу сказать, что ты благодарствуешь. А встретите его где, то скажите сами: спасибо, мол. Будет вам нужда – я, мол, всей душой готова служить!..
Гудович уж собрался уходить, когда Воронцова остановила его вопросом:
– Гудочек, а как по-твоему, с чего это он меня дарить вздумал?
Гудович почесал в затылке, помолчал и выговорил:
– А по его глупости, матушка, дурак он – вот что. Да и денег фридриховских у него куры не клюют. Надо полагать, что это все ради нашего нового трактата. Ведь на днях трактатец государь подмахнет. Ну, вот Гольц в горячее-то время и одаривает всех; все боится, а ну-ка я, либо принц, либо вот ты остановим государя, отсоветуем. Знает он, что государь – человек добрый, слабодушный, если кто здорово привяжется, да начнет пугать, да стращать, так живо и отговорит. Вот, на мой толк, барону и пришло на ум: ну как Романовну другой кто задарит да она отговаривать учнет, дай лучше я забегу да поднесу ей что-нибудь. Да и кто его знает еще… Сам, вероятно, наживет на букете.
– Как то ись наживет? – не поняла Воронцова. – Что ты?
– Эх ты, простота! Как? Поставит его Фридриху в счет вдвое супротив его цены. Наши послы завсегда это делали. А кроме того, еще скажу, у нас в столице умные свои люди есть, родная, кои думают, что ты простой прикидываешься, а то и дело об европейских событиях с государем толкуешь и по наговору канцлера великие дела вершишь. Гольцу известно, что родитель твой зело против трактата, да и дядя тоже… Ну, думает, подарю Воронцовой букетец – может, и тятенька с дяденькой ласковее будут. Он мне вчерася вечером, придравшись к моему слову, взаймы тысячу червонных дал. Я и не просил, а только охнул при нем, что дорого очень все в Петербурге да что новый мундир мой много стоит. Ну, он мне сейчас и предложил взаймы.
– Так ведь это же взаймы, – заметила Воронцова. – Букет-то нешто тоже придется мне ему после подписания трактата отдавать?!
Гудович рассмеялся:
– А я нешто отдам назад? Э-эх, Романовна, куда ты проста. За то я тебя и люблю. Ну, мне пора…
Вернувшись домой, Гудович нашел у себя адъютанта государя, Перфильева, и приятеля князя Тюфякина. Перфильев был совершенной противоположностью Гудовича.
Он действительно исправлял адъютантскую должность при государе, и довольно мудреную и утомительную. Что бы ни понадобилось, все делал Перфильев. Часто случалось ему по нескольку часов кряду не сходить с лошади. На нем же государь подавал пример, так сказать, всем офицерам гвардии. Так, когда был отдан приказ учиться фехтованию, то Перфильев стал первый вместе с принцем Жоржем брать уроки у Котцау. Когда был принят прусский артикул с ружьем, Перфильев опять-таки первый выучился ему.
Из всех окружающих государя Степан Васильевич Перфильев был самый умный, добрый и дальновидный. Он видел и понимал все совершавшееся на его глазах, и если бы он имел большие влияния на дела, то, конечно, многое бы пошло иначе.
Главная беда состояла в том, что Перфильев, как это часто встречается, считал себя глупей, нежели он был в действительности. Часто, видя что-нибудь, что казалось ему опасным и вредным для правительства государя, он убеждал сам себя, что, стало быть, так надо, что он в этом ничего не смыслит. Перфильев очень бы удивился, если бы ему сказали, что он умнее всей свиты и приближенных государя; очень бы удивился, если бы ему сказали, что принц Жорж глуп, а барон Гольц продувной плут, то есть истинный дипломат. Сам Перфильев бессознательно понимал это, но вместе с тем не доверял своим суждениям.
Зато у честного, умного и прямодушного Степана Васильевича было три слабости, в которых даже его и винить было нельзя. Это были три слабости его времени, его среды и нравов столицы. Он любил редко, но метко выпить. Любил тоже запоем, несколько дней проиграть, не раздеваясь и не умываясь, в карты, до тех пор, покуда не спустит все, что есть в карманах. В-третьих, он был падок на прекрасный пол, но не из среды большого света. Женщины светские для него не существовали. Зато не было в Петербурге ни одной приезжей шведки, итальянки, француженки, с которыми бы Перфильев не был первый друг и приятель.
Но, обладая этими тремя слабостями своего времени, Перфильев отличался от других тем, что знал, где граница, которую порядочный человек не переступает.
Проиграв хотя бы и большие деньги, он не ставил ни одной карты и ни одного гроша в долг, и, таким образом, карточных долгов у него никогда не бывало ни гривны, а, наоборот, за другими пропадали выигранные суммы. Часто видели Перфильева веселым, но никогда пьянство не доходило у него до безобразия и до драки. Напротив того, чем пьяней бывал он, тем остроумнее и забавнее.
Гудович, вернувшись, нашел в своей квартире и друзей, и большой запечатанный пакет. В этом пакете оказалась бумага, по которой он мог получить от голландца-банкира сумму в тысячу червонцев, и, кроме того, была вложена завернутая в бумажку игральная карта с нарисованным на ней букетом.
Перфильев и Тюфякин, близкие люди Гудовича, удивленные разрисованной игральной картой, тотчас приступили к нему с допросом.
– Это, голубчики, денежный документ мне самому. А карта эта – такая штука, что если бы мне дали выбирать, так я бы и тысячу и три тысячи червонцев отдал бы, а карточку эту взял.
– Ну вот! – воскликнул Тюфякин, и глаза его даже блеснули.
– Верно сказываю, денежки мне, а карточка эта не мне. И от кого – сказать уж никак не могу. Я с ней должен послать доверенного человека к бриллиантщику Позье, а он, получив ее, выдаст вещичку алмазную ценою в пять тысяч червонцев, которые он уже вперед за работу получил. Только вы об этом никому ни слова. Дело тайное! По дружбе сказываю. Сам Позье не знает, кто заказал, кто деньги послал, кто за работой приедет и кто его вещицу носить будет. Вот как! – весело болтал Гудович, и, сунув денежный документ в боковой карман, он тщательно запрятал игральную карту в маленький потайной кармашек камзола, застегивавшийся на пуговицу.
– Ну, сегодня я угощаю, – сказал он. – Приезжай через час в «Нишлот», – обернулся он к Перфильеву.