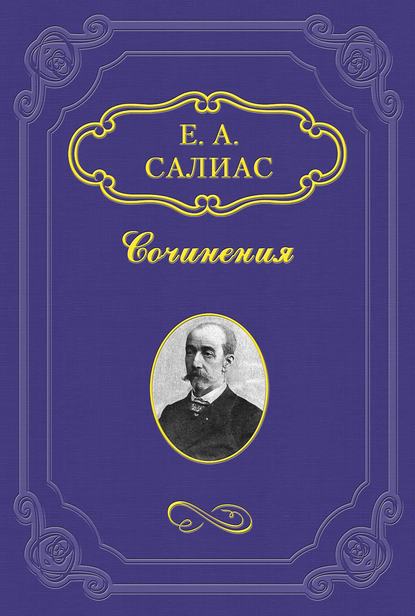По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аракчеевский сынок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
LIII
Войдя к Шумскому в спальню, Квашнин нашел друга на постели, лежащего на спине с подсунутыми под голову руками. Лицо его было бледно, глаза сверкали необычным блеском, но в выражении их не было гнева, а ясно и ярко сказывалось как бы невероятно-мучительное физическое страдание.
– Нездоровится? – произнес Квашнин, становясь перед ним, но смущенно опуская глаза.
Шумский глянул на друга пристальнее и выговорил глухо:
– Смерть! Нет, хуже смерти… Умирать, наверное, легче… Вот когда я узнал, что такое – адская мука… Когда Еву потерял, думал, хуже не будет… А теперь… вот…
Шумский не договорил и глубоко вздохнул.
– В чем дело? что случилось? Ведь ты говоришь, что не стрелял по нем… – спросил Квашнин.
– Как мальчишка дался… Отняли пистолет.
– И слава Богу! Мог убить.
– Он меня убил… Не я его… Одним словом убил, простым словом. Да, простое слово. Подкидыш!
– Что?! – воскликнул Квашнин. – Он тебе это сказал!
– Ты это знал…
Квашнин молчал.
– Ты это знал… Ты не удивился теперь… Вы все… Весь Петербург… Все знали! Зачем же никто мне не сказал это…
Шумский смолк и глядел перед собой в стену лихорадочно засверкавшими глазами.
– Не будь фон Энзе – я бы и теперь не знал… Все воображал бы себя…
– Михаил Андреевич, разве этот немец присутствовал при твоем рождении, разве…
– Однако я – Андреевич… А граф – Алексей Андреевич.
– Это клеветническая выдумка… Такие вещи нельзя говорить. Все можно сказать. Надо доказать. Фон Энзе лжет…
– Нет, не лжет! – оживился Шумский. – Не таковский. Скажи фон Энзе, что я убийца, и я поверил бы. И стал бы вспоминать, когда убил.
– Надо доказать. Эдак и про меня и про всякого можно то же выдумать. Где доказательства? У кого они?
– Здесь. У меня!..
Шумский тихо принял одну руку из-под головы и показал себе на сердце.
– Здесь доказательство, что это правда… Подкидыш. Чужой… Да…
Квашнин опустил голову, голос Шумского тихий, томительный, за душу хватающий, потряс все его существо. Квашнин боялся, что слезы явятся у него в глазах, и он отвернулся.
– Я не верю, – проговорил он чуть слышно, но звук его голоса выдавал неправду.
– Я знаю… Да. Подкидыш! Недаром я с колыбели презирал эту пьяную бабу и ненавидел этого дуболома. Боже! Что царь нашел в нем? Что Россия видит в нем? Я вижу зверя и дурака. Да. Зверь и дурак! Свирепо жесток, и глуп…
Шумский приподнялся, сел на кровати и взял себя за голову.
– Бедная башка!.. Вот ударили-то… Крепка была, а надтреснула…
Он помолчал и, вздохнув глубоко, заговорил медленно, но более твердым голосом:
– Ты, думаешь, друг, Петр Сергеевич, что я скорблю о том, что не побочный сын вельможи-зверя и пьяной канальи. Нет, видит Бог, я рад даже, что Аракчеев мне чужой человек и она чужая… Я это всегда чувствовал и теперь рад, что узнал наверное… Но я… Я теряю Еву… Она не может идти замуж за… За кого? Я и сам не знаю. Кто я – кто это скажет… Мальчишка с деревни, сынишка крестьянина, а то… А то и лакея… Да, сынишка даже не простого мужика крестьянина, а дворового хама… Вот как Васька…
Шумский вытянул руки и стал смотреть на них, потом грустно улыбнулся.
– Вот… Да… Хамово отродье… Кровь дворянская?.. Нет, хамская, холуйская, лакейская. Я Ваське Копчику говорил еще вчера об этом… А оно и во мне… Да это не… невесело. Ева одно – а я другое. Говорят ученые – в заморских краях все равны, все одинаковы, по образу Божию… Да я то в это не верил! Глубоко, сердцем моим не верил. И вот оно – наказанье! Тяжело, друг Петя.
– Почему же ты знаешь… – заговорил Квашнин. – Может быть, ты хотя и не Аракчеева сын, но все-таки нашего… – Квашнин запнулся и прибавил быстро, – дворянского происхождения.
– Нет, не вашего… – отозвался тихо Шумский, странно улыбаясь и налегая на это слово. – И вот теперь надо узнать, кто я… И я узнаю!.. Я дороюсь… Но что пользы будет… Она, все-таки, моей женой не станет.
– Ты забываешь, что ты офицер и флигель-адъютант государя. – Стало быть, ты сам по себе…
– Деланный дворянин.
– Не все ли равно.
– Отчего же Нейдшильд отказал?
– Он дурак! – вскрикнул Квашнин. – Я таких дураков редко видал. У него третье слово, – предки да предки, да Густавы какие-то.
– Надо застрелиться! – тихо произнес Шумский как бы сам себе.
– Господь с тобой! – воскликнул Квашнин, – стыдись и говорить… А сделать этого ты не можешь. Ты слишком умен для того…
– Вот этого я и боюсь, – глухо проговорил Шумский. – Мне ничего бы убить себя… Это не так мудрено, как говорят… Но я боюсь, что разум не допустит… А как жить? Какова будет моя жизнь… Ты подумай, какова будет моя жизнь. Любимая девушка – женой другого. Сам холопского происхождения. Средств к жизни никаких… А работать, доставать деньги… Как? Лавочку открыть, торговать свечами и ламповым маслом?
– Помилуй. Ведь это только этот дьявол улан мог такую гадость сделать… Сказать тебе это в лицо… Но все так и останется. Кто же сунется с этим к графу.
– Что? – громче произнес Шумский, слегка выпрямляясь.
– Я хочу сказать, что слухи и прежде были, но до графа же не дошли. И теперь никто не сунется ему это объявить. Все по-старому и останется. Кто же это пойдет, посмеет любимцу государя говорить, что…
– Я.
Наступила пауза. Квашнин глядел на друга, широко раскрыв глаза.
– Зачем? – тихо выговорил он наконец.
– Он прогонит ту… свою… за обман.