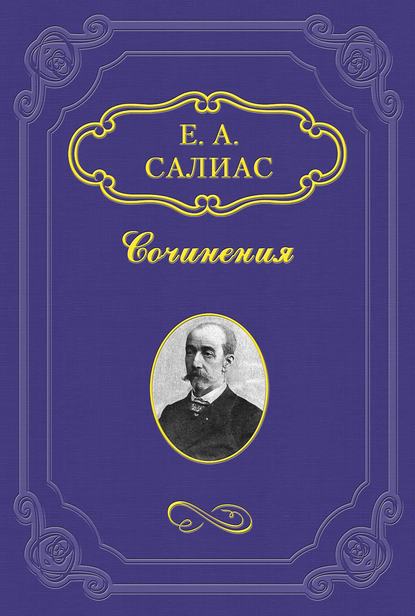По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аракчеевский сынок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну что ж, – вдруг воскликнул Шумский. – Важность какая. Хоть бы и в Сибирь! То-то вы мамки да няньки, да все дворовые хамы! Любите, обожаете, на словах тароваты, красно говорить умеете. А чуть до дела коснется, чуть у вас, хамова отродья, попросит барин вот малость какую, хоть с ноготок свой не пожалеть. Так куда только ваше обожание девается. С собаками и с чертями на дне морском не разыщешь. Спасибо, коли так! А все-таки не думал… Думал, что ты и взаправду меня любишь.
Шумский встал в притворном негодовании, как бы даже оскорбленный, возмущенный до глубины души неблагодарностью своей мамки. Он отвернулся и стал глядеть в окно.
Авдотья быстро поднялась тоже и засуетилась.
– Что вы! что ты! Господь с тобой! Я же ничего не сказала. Я говорю – хоть в Сибирь, что за важность. Не боюсь я ничего. Что мне, я старая, век свой прожила. Я не к тому. Да и какая Сибирь. Это так к слову. Пашутка болтала и мне сбрехнулось. Ты не гневись, я баба, тебе лучше все известно. Так когда же прикажешь идти-то?
Шумский повернулся от окна. На лице его была насмешливая улыбка, которую он не мог скрыть, да и не считал нужным.
– Сообразись с мыслями. Как бы тебе сказать, приучи, что ли, себя думаньем к тому, что тебе надо будет говорить и делать. Сегодня я напишу письмо якобы от Пашутки, тебе передам, а завтра утром ступай к Нейдшильдам. Ну, вот все. Повторяю, только услужи ты мне и проси чего хочешь. Ну, любить, что ли, тебя буду. Больше-то что же? Ведь не денег же тебе.
– Какие тут деньги, – покачала головой Авдотья.
– Ну, любить буду. Не веришь?
И к удивлению Шумского Авдотья вдруг прослезилась, потом начала плакать, а затем уже совсем разрыдалась, всхлипывая и потрясая плечами. Что заставило ее сразу разрыдаться, Шумский не понимал. Но Авдотья и сама не понимала!
Женщине как будто вдруг почудилось при этом его обещании ее любить, что последняя ее надежда на возможность этого чувства в ее питомце исчезла. Именно теперь, в эту минуту, когда он два раза повторил, что будет ее любить, ей именно и показалось, что никогда он ее не любил и не будет любить. Теперь-то вдруг и разверзлась между ними пропасть. Кто-то будто невидимкой, явился и шепнул что-то женщине, схватившее ее за сердце. И очи этого сердца вдруг прозрели и увидели… Мамка всем существом почувствовала глубже и сильнее, чем когда либо, насколько далека и чужда она своему питомцу… Он барин, она хамово отродье… Ее уход за ним, ее долголетнее обожание? Все что было – он забыл… А может быть, и не заметил…
XXVII
На следующий день Авдотья, сумрачная и молчаливая, собралась в дом Нейдшильда. У нее было письмо от Пашуты к баронессе, в котором девушка заявляла, что внезапно выехала в Грузино по своему делу и пробудет там около недели. Письмо, конечно, сочинил Шумский, писарь переписал, а вместо подписи был поставлен простой крючок.
Шумский и не подозревал, что делал наивный промах, ибо не знал, что за время своего пребывания у Евы, ее любимица выучилась изрядно писать по-русски, а имя свое писала даже красиво и с росчерком. Авдотья вышла из дома перед полуднем. Шумский часа три проволновался, ожидая каждую минуту возвращения женщины обратно в квартиру и, следовательно, отказа баронессы взять Авдотью на место любимицы… А это было равносильно полной неудаче в его предприятии.
Но когда было уже часа четыре и на дворе стало темнеть, Шумский ободрился. Ввечеру он уже был весел, доволен и почти счастлив. Авдотья была, очевидно, принята баронессой на место Пашуты.
Однако, еще в сумерки Шумский был смущен неожиданным посещением юного офицерика. Но смущение продолжалось недолго.
«Черт их всех подери!» – решил мысленно молодой человек, узнав в чем дело.
К Шумскому явился посланец от самого графа Аракчеева, юный прапорщик, состоявший чем-то по военным поселеньям. Он объяснил почтительно, что граф «изволят» спрашивать, продолжает ли все еще идти кровь носом у Михаила Андреевича.
Сначала Шумский ничего не понял и глаза вытаращил, но затем смутился. Он забыл и думать о своем внезапном исчезновении из дворца, а главное, забыл не только извиниться перед отцом, но даже ни разу не вспомнил о присутствии отца в Петербурге.
Подумав несколько секунд, Шумский мысленно послал «всех» к черту и выговорил:
– Доложите его сиятельству, что идет…
Офицерик, конечно, понимавший смысл данного ему графом поручения, теперь в свой черед глаза вытаращил на дерзость ответа.
– Как, тоись… – решился он вымолвить.
– Да так… Идет, и шабаш! То нету, а то опять пойдет. Вот и сижу дома. Так и доложите!
Офицерик уехал, а Шумский долго смеялся…
Между тем, в квартире, где было так весело ее владельцу, находилось тоже почти забытое им несчастное существо, которому было не до смеху.
Первые часы, проведенные Пашутой в чулане, где она была заперта, прошли для нее незаметно. Девушка была в каком-то тупом, почти бессознательном состоянии. Понемногу рассудок вернулся к ней, и, прежде всего, она стала обвинять себя в легкомысленном шаге. Она не понимала, как могла настолько наивно и ребячески попасть в ловушку.
К вечеру, много и много передумав, Пашута как-то успокоилась. Она рассудила, что рано или поздно все равно попала бы в руки своих мучителей. Она ясно понимала, что если граф Аракчеев прежде не соглашался, то и теперь не согласится продать ее, так как, вероятно, именно Шумский воспрепятствовал этому через Настасью.
Девушка, однако, по характеру своему не могла относиться пассивно к чему бы то ни было, до нее касающемуся, а тем паче к теперешнему своему положению. А было очевидно, что, продержав ее взаперти необходимое число дней, Шумский отправит ее в Грузино, где начнутся, конечно, всякие мытарства и Настасья Федоровна щедро отплатит ей за все по наущению своего сынка. Спасти себя от будущих мучений в Грузине было почти невозможно. Она могла только, как раза два предлагала ей баронесса, тайно бежать и на всю жизнь скрыться где-нибудь в Финляндии, где даже всесильный Аракчеев не мог бы ее разыскать. Но это она могла бы сделать только в будущем. Теперь же нужно было бороться, спасти баронессу и отомстить за себя, воспользовавшись тем страшным оружием, которое необдуманно и неосторожно дала ей в руки сама Авдотья.
И ввечеру Пашута почти совершенно успокоилась. Она поела хлеба, выпила воды и невольно грустно улыбнулась. Смешно и дико показалось ей ее положение.
Чулан с довольно чистыми стенами, светлый, с небольшим окошком на двор, был сравнительно велик – около квадратной сажени. В окошечко с двумя рамами смотрел на нее новый двурогий месяц. В чулан было натаскано братом очень много сена, и Пашута, разодетая и расфранченная, сидела, поджав ноги, на полу. Ее щегольской костюм всего более казался ей смешным при этой обстановке.
«Дворовая, крепостная девка, разодетая барышней, – думалось ей, – сидит в чулане на сене с краюхой хлеба и глиняным кувшином воды!»
Пашута вздохнула, перекрестилась и, устроив свой теплый салопчик в виде подушки, улеглась. Вскоре, не столько от усталости, сколько от волнения и всего пережитого в этот день, она уже крепко спала.
Наутро рано она очнулась от легкого стука в дверь. Так как стук повторялся, то она, наконец, отозвалась.
– Я это, Василий, – послышался шепот брата за ее дверью. – Что, как ты? – прибавил Копчик участливо.
– Ничего, – отозвалась девушка.
– Ты не думай, Пашута, что я тебя тоже им предам. – Нету. Я надумал дело, только говорить теперь нельзя. По сю пору подойти к двери не мог. Авдотья тут была, теперь вышла, должно, опять Богу молиться. Как только разойдутся все из дома, и барин уедет, мы на просторе побеседуем обо всем. А теперь покуда сиди, да не печалься. Мы их перехитрим. Спи себе, еще ведь рано.
Когда Авдотья ушла в дом Нейдшильда, Копчик стал нетерпеливо дожидаться, чтобы барин тоже выехал со двора. Войдя раза два в кабинет, малый догадался, что Шумский, очевидно, чего-то ждет и никуда не собирается. Васька настолько изучил барина, что читал по его лицу, как по книжке. Он понял теперь, что Шумский сидит в тревоге и ждет, конечно, результата от посылки Авдотьи.
«Пожалуй, весь вечер дома просидит, – подумалось Ваське. – А вернется коли Лукьяновна, мне и совсем нельзя будет переговорить с Пашутой».
Лакей решился вдруг, притворил все двери между кабинетом и гардеробной, приблизился к чулану и окликнул сестру.
Пашута тотчас же отозвалась более свежим и бодрым голосом.
– Садись к самой двери, – сказал Копчик, – как и я вот… И поговорим.
И усевшись на полу у самой двери чулана, Копчик, почти прикладывая губы к небольшому отверстию между дверью и притолкой, стал полушепотом расспрашивать сестру о всем, что случилось нового за последнее время, и как могла она так глупо попасть в западню. Беседа брата с сестрой затянулась. Изредка Копчик вставал, проходил на цыпочках к кабинету барина и, убедившись, что тот продолжает спокойно сидеть у себя, снова возвращался и снова начинал прерванную беседу.
Прошло уже около часа, что брат с сестрой объяснялись, и объяснение это было, вероятно, выходящее из ряда вон. Вероятно, Пашута передала брату что-либо чрезвычайно неожиданное и невероятное. Лицо Копчика изменилось, глаза раскрылись как-то шире и смотрели тревожнее. Он был настолько сильно взволнован, что боялся, как бы вдруг барин не позвал его к себе. Он чувствовал и понимал, что с таким лицом являться на глаза к Шумскому было опасно. Барин мог заметить перемену, которую сам чувствовал в себе Копчик.
Пришедший по какому-то делу кучер прервал беседу брата с сестрой. На какие-то незначащие вопросы кучера Копчик отвечал рассеянно.
– Что? Аль недужится? – спросил тот, внимательно глядя в лицо лакея.
– Нету, нету. Что ты! – поспешил вымолвить Копчик. – А, что? Почему спрашиваешь?
– Рыло-то у тебя такое, точно лихорадка трясет, – заметил кучер.
Копчик испугался мысли, что каждую минуту его может позвать барин, а перемена в лице его была, очевидно, велика, если даже простой мужик заметил ее.
И было от чего крепостному холопу графа Аракчеева измениться в лице. Пашута передала брату подробно то, что Авдотья называла своим «страшным» словом и то, что называл Шумский «чертовским» словом. Должно быть, в самом деле было многознаменательно и важно сообщенное Авдотьей своей приемной дочери и переданное ею брату, если этот малый был теперь настолько поражен и взволнован. Вдобавок, в конце беседы через дверь, Пашута упросила брата помочь ей бежать, как можно скорее, чтобы спасти баронессу и отомстить мучителям. Копчик обещался, но при этом вздохнул и прибавил:
– Вестимо, надо тебе бежать и все поднять! Вестимо, надо перевернуть все вверх дном. Оно им всем будет пуще и вострее ножа. Но нехай, пущай, нечего их злодеев жалеть, ни графа, ни Настасью, ни этого дьявола, ни Лукьяновну. Все они дьявольское семя. Но только надо подумать, Пашута, как помочь. Сама ты не захочешь бежать так, чтобы меня Михаил Андреич до смерти убил за это. Надо надумать так чтобы мне в стороне остаться. Похитрее надо. А то ты освободишься, а меня он убьет до смерти. Не впервой ему убивать народ.