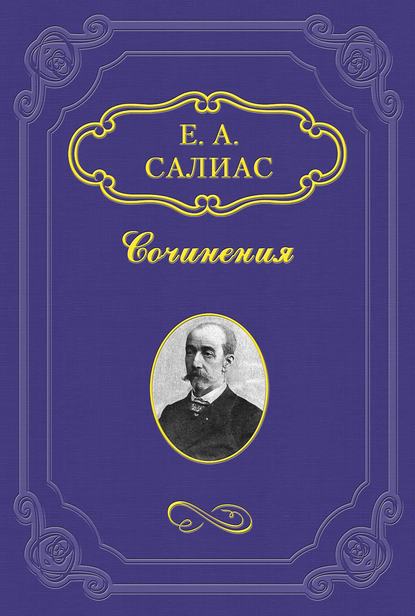По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аракчеевский сынок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда Пашута очнулась, то увидала, что баронесса тихо выступает из комнаты в гостиную, а Авдотья следует за ней. Она машинально двинулась тоже. Оказалось, что баронесса пожелала показать женщине свой портрет пастелью, почти оконченный художником Андреевым.
Авдотья хорошо знала, что ее питомец когда-то хорошо рисовал, он даже с нее когда-то, будучи ребенком, делал портреты, и настоящие, как называл он их, и смешные, и добрые, и злые. И себя самого часто рисовал он в зеркале и дарил мамке. Все стены в горнице Авдотьи в Грузине были увешаны портретами питомца и ее собственными.
Увидя портрет баронессы, Авдотья вспомнила про талант своего Мишеньки. Когда баронесса начала хвалить работу, Авдотья не выдержала.
– И мой Михайло Андреевич тоже рисовать может, и эдак малевать может.
– Как? – почему-то удивилась Ева.
– Точно так-с, Михайло Андреевич хорошо рисует и человечьи лики, и всякие фигуры. Вот эдакими разными карандашами…
Авдотья и не подозревала, что есть неосторожность в ее словах; но, переведя глаза с портрета на стоящую перед ней Пашуту, она вдруг оторопела.
Пашута, широко раскрыв свои красивые глаза, сурово смотрела на Авдотью. Она не только удивлялась, но боялась того, что сейчас может прибавить разболтавшаяся женщина. Но умная Авдотья в один миг сообразила, чьей работы этот портрет баронессы.
– Мой Мишенька, – робко добавила она, не любя и не умея лгать, – таких больших патретов никогда не рисовал. Это, стало быть, настоящий маляр, а мой барчук только ради баловства занимается.
Баронесса уже хотела что-то снова спросить о Шуйском и, пожалуй, поставить женщину в затруднительное положение, когда на счастие Авдотьи явился из залы Антип и доложил, что барон просит дочь пожаловать к себе.
Оказалось, что Нейдшильд только что вернулся из дворца.
Ева отправилась к отцу и узнала, что барон ездил просить графа Аракчеева продать ему девушку Пашуту. И почти добился его согласия. Надо только молчать об этом до времени.
Между тем, Авдотья снова прошла в горницу любимица и ждала, чтобы Пашута, убрав спальню своей барышни, пришла для роковой беседы.
Когда баронесса, пробыв около часу у отца, вернулась к себе и села за чтение своего любимого поэта Шиллера, то до ее слуха достигли из соседней комнаты голоса, которых она в первое мгновение не узнала. Только прислушавшись, поняла она, что разговаривают Пашута и ее гостья.
Голос Пашуты звучал иначе, как-то хрипливо и резко. Слов баронесса разобрать не могла, но чуяла, что Пашута говорит гневно, все себя, по-видимому грозится, пылко и страстно.
– Неужели они поссорились? – изумилась Ева.
А, между тем, по-видимому оно так и было.
– Да Бог с тобой! Что ты! Опомнись, очнись! – ясно долетали слова, сказанные Авдотьей трепетным, перепуганным голосом.
– Нет! нет! Мне лучше на смерть! – вскрикнула еще громче Пашута с отчаянием. – Тем паче! Тем паче! – два раза вскрикнула она чуть не на весь дом. – Теперь пусть он покорится мне, а не я ему покорюсь.
Затем, на какую-то фразу Авдотьи, Пашута громко заговорила и, казалось Еве, зарыдала.
– Люблю, помню все, но не могу. Не усовещивайте. Перемены не будет, я стою на своем. Не покоритесь, то я вас всех за баронессу отдам. Зачем говорили? Не я выспрашивала! А теперь, вы в моей власти. Так Господь судил! Уходите, велите ему мне покориться, а то я всех загублю.
Баронесса, выронив книгу, невольно прислушивалась к странному разговору, скорее к страшной ссоре двух женщин. Но вдруг в горнице сразу все стихло и Ева принялась снова за чтение. Но в ту же минуту вбежала к ней в комнату Пашута с пунцовым лицом и с рыданиями бросилась перед ней на колени.
– Что ты, что ты! – испугалась Ева.
Но Пашута, забыв строгий приказ барышни и ее брезгливость, схватила ее руки и начала покрывать их поцелуями и орошать слезами.
– Простите! Забыла! Простите! – выговорила Пашута. И схватив край платья своей дорогой барышни, она начала страстно целовать подол юбки.
– Говори, что такое?
– Ничего не скажу, хоть убейте. Но только не думайте… Беды нет! Все слава Богу! Господь милостив, Господь за нас! Сам Господь врагов наших мне в руки предал. Ослепил и предал.
Напрасно Ева стала расспрашивать любимицу, в чем заключалась ее странная беседа с Авдотьей. Пашута отказалась наотрез объяснить что-либо. Понемногу, однако, девушка успокоилась, перестала плакать, улыбнулась почти весело и решительным голосом проговорила:
– Теперь вам ничего я не скажу. Придет время, все узнаете. Одно только скажу: слава Богу, слава Творцу Небесному!
И Пашута нервно перекрестилась несколько раз. На вопрос Евы, где Авдотья, Пашута махнула рукой, решительно и отчаянно…
– Ушла, больше не придет!
– Как не придет? – удивилась Ева. – Почему?!.
– Не придет! Конец всему. Михаил Андреевич ее теперь у меня в руках… И граф тоже… И Настасья… И все… Только я слово одно скажи и столпотворенье в Грузине будет… Ах, да лучше уйти от вас. А то сорвется что с языка!..
И Пашута, быстро поднявшись, почти выбежала из комнаты.
Ева, оставшись одна, задумалась и думала: отчего все могут так из себя выходить, громко говорить, кричать, кидаться, махать страшно руками… А в ней всегда все так невозмутимо, ясно, просто, тихо. Что могло бы ее взволновать и привести в такое же бурное состоянье?
Радостная весть, большое горе, ужасное оскорбленье, огромная опасность?.. Нет… Что же? Ева не знала.
XXIII
Был уже давно сентябрь месяц. С того дня, что Шумский во флигель-адъютантской форме встретился с бароном во дворце, прошло более двух недель. Дела Шумского и его отношения ко всем окружающим перепутались окончательно. Молодой человек с крепкой, здоровой натурой, от природы энергический и предприимчивый, легко боровшийся со всякого рода затруднениями, теперь был окончательно сбит с толку, чувствовал, что у него ум за разум заходит. Не ощущая собственно никакой болезни, Шумский теперь чувствовал себя, однако, как бы больным. Он был донельзя измучен, раздражен и, казалось, способен, как женщина, на истерический припадок.
Чем более он обдумывал свое положение, тем больше приходил в тупик.
– Все запуталось и перепуталось, – думал и повторял он. – Сам дьявол ничего тут не поделает.
А между тем, вся путаница произошла от одного слова. От того слова Авдотьи, которое она всегда называла «страшным» и которое она сказала Пашуте. Оно-то, это страшное слово, все и перевернуло вверх дном.
После беседы своей с Пашутой, Авдотья прибежала в квартиру Шумского, как безумная, с изменившимся лицом, дрожащая, перепуганная, растерянная. Она рассказала, путаясь, своему питомцу, что объяснилась с Пашутой, что от этого объяснения произошла только беда и что нужно Пашуту немедленно, не теряя ни минуты, взять из дома барона.
Шумский при таком результате настолько был поражен, что едва мог собраться с силами, чтобы только развести руками.
– Вот так устроила! – промолвил он тихо, без гнева, но затем повторял это слово в течение нескольких дней.
В чем заключалось ее объяснение с Пашутой, женщина ни за что сказать не хотела, говоря, что даже угроза ссылки в Сибирь не заставит ее признаться. Сначала Шумский был изумлен, конечно, но затем решил, что это все одни бредни и одна «бабья дурь». Он тотчас обвинил себя и только в том, что поверил в серьезность помощи Авдотьи.
«Дура-баба вообразила себе что-то, сочинила, наговорила какого-то вздору девчонке, ничего из этого не вышло, вышло даже что-то худшее», – думал он.
Однако, несколько дней допытываясь от мамки, в чем заключалось объяснение, почему она требует, чтобы Пашута была немедленно взята из дома барона, Шумский все-таки заставил Авдотью говорить. Она объясняла и рассказывала три дня подряд и в конце всех ее речей и рассказов Шумский увидал ясно, что женщина лжет от первого слова до последнего, желая скрыть сущность действительного объяснения.
– Да ты лжешь, противоречишь сама себе! – восклицал Шумский.
Авдотья божилась, что не лжет, а затем через час плакала, говоря, что грешит с неправедной божбой и что все-таки самой сути она никому, а тем паче своему любимцу не скажет.
Выгнавши однажды Авдотью из своего кабинета, Шумский дней десять не видал мамку и даже велел ей через Ваську не показываться ему на глаза. Раза два он уже собирался отправить женщину обратно в Грузино.