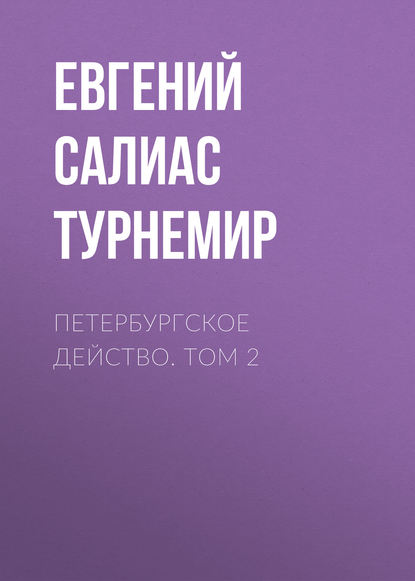По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петербургское действо. Том 2
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Маргарита, разумеется, ничего не знала: ее дело было только передать барону полученную карточку.
Посидев у графини, побеседовав с ней, расспросив ее о том, что говорят в Петербурге о мирном договоре и о нем самом, Гольц развеселился и забыл думать об украденной сумме.
– Главная беда, – сказал он, – не в том, главная беда, что мне теперь нечего ко дню маскарада поднести Воронцовой. У Позье, наверное, нет ничего готового свыше каких-нибудь трехсот червонцев.
Маргарита согласилась с этим, но затем, покуда Гольц продолжал рассказывать ей о своих приготовлениях к балу, Маргарита задумалась и соображала что-то. Наконец как бы пришла в себя и вымолвила:
– Хотите у меня купить бриллиантовую брошь, только что переделанную заново тем же Позье и которая мне не нужна? Мы ее свезем к нему, оценим, и вы возьмете.
Гольц с радостью согласился.
Когда он уехал, Маргарита позвала свою любимицу и весело объявила ей:
– Ну, Лотхен, опять деньги есть! Одну вещь из дедушкиных продала.
– Это все прекрасно, liebe Gr?fin, но когда же вы заплатите дедушке за эти все бриллианты? – выговорила Лотхен, насмешливо и двусмысленно усмехаясь.
– Не скоро, Лотхен. И по правде сказать тебе… я буду откладывать и тянуть дело до тех пор, покуда не наступит час, в который мне можно будет совсем не платить!
– А разве такой час наступит? Не верю.
– Верь, Лотхен.
Горничная помолчала и выговорила, смеясь:
– Ну а сержант?
– Ну, об этом не смейся. Это не шутки! – как-то странно произнесла Маргарита, задумчиво и грустно.
Лотхен вытаращила глаза и чуть-чуть пожала плечами.
XXXII
Первого мая в сумерки в доме прусского посланника волнение и движение усилились.
К семи часам весь большой дом горел огнями, и светлые лучистые столпы выливались из окон, освещая, как днем, широкую улицу. Кроме того, около подъезда и вокруг всего дома горели плошки и бочонки со смолой.
Взводы гвардейских солдат от разных полков в красивых новых мундирах стали появляться под командой капралов и сержантов, и их расставляли часовыми на улице, у подъезда, в передней, на широкой лестнице и до дверей самой приемной. Это было сделано по приказу государя в знак особого почета к любимцу и посланнику нового союзника-короля.
На большой лестнице, украшенной гирляндами и венками и покрытой красным сукном, преображенский сержант расставлял часовых из своего взвода и двоих из них поставил у самых дверей, ведущих в приемную. Сержант был Шепелев, а один из рядовых, которого он умышленно поставил не в передней и не на лестнице, а на том месте, где будет видно всех гостей, был Державин. Но оба друга, сержант и рядовой, были как-то грустны. Шепелев был немного бледен и снова почти в таком же состоянии, как когда-то до своего свидания с Маргаритой у гадалки.
Державин был тоже грустен. Перевод его в голштинцы все не ладился с Великого поста, а на дворе уж май месяц. Вдобавок хотя он и любил своего ученика, но невольно стал теперь завидовать ему. Этот добрый малый ничем, конечно, не отличался, был такой же рядовой, как и он, а теперь, перескочив через чины капрала и унтер-офицера, попал прямо в сержанты бог весть за что, по какой-то странной, никому в полку не понятной случайности, по капризу принца Жоржа.
«И вот вся жизнь так пройдет, – думалось рядовому Державину с ружьем на плече, когда он глядел на товарища сержанта со шпагой. – Одному везет, а другому нет. Почему одному везет и почему другому не везет – сама матушка-фортуна не знает».
Бал-маскарад у прусского посланника, объявленный за три дня перед тем в городе, то есть вскоре после тайного подписания мирного договора, наделал много шума в столице.
«Голштинцы», и русские и немецкие, конечно, ликовали. Этот маскарад был видимый признак, что на их улице праздник.
Партия «елизаветинцев», конечно, негодовала, всякий со своей точки зрения. Одни говорили, что со смерти покойной императрицы прошло только четыре месяца, что это своего рода скандал. Другие прибавляли, что Гольц мог бы сделать простой бал, но на смех делает маскарад прежде, чем кончился траур по государыне, бывшей всю жизнь врагом Фридриха.
Многие являлись к государыне спрашивать, поедет ли она. Екатерина Алексеевна не отвечала ни да, ни нет, но в уме давно решила в этот день заболеть и остаться дома.
Многие, как Разумовские и вообще близкие люди покойной императрицы, чувствовали себя оскорбленными и тоже обещались захворать и не быть в маскараде.
Но за день до первого мая прошел по лагерю «елизаветинцев» как бы пароль: всем быть в маскараде.
Один из самых молчаливых на вид и ленивых офицеров кружка Орловых, Пассек, был в то же время самым благоразумным, осторожным и тонким.
Пассек был особенно близок и дружен с княгиней Дашковой и чаще других бывал у нее. И она и он рассудили, что не быть в маскараде прусского посланника – значит дать возможность врагам пересчитать и, так сказать, пометить всех главных лиц неприязненного лагеря. Дашкова, конечно, передала это государыне. В тот же вечер не известными никому, но, конечно, известными государыне путями весь лагерь «елизаветинцев», явных и смелых, осторожных и боязливых, получил как бы приказ готовить костюмы и мундиры и ехать к Гольцу.
И теперь не только те, которые хотели умышленно захворать, стали собираться на бал, но даже и те, которые действительно хворали, также поехали.
В восемь часов уже начался шум на улице, крики кучеров и форейторов, солдат и полицейских, гром копыт и колес по мостовой; гости начали съезжаться.
Гольц встречал всех в дверях, отделявших большую, украшенную зеленью и венками лестницу от прихожей, где на двух стенах, один против другого, висели два щита с двумя государственными гербами – прусским и российским.
И здесь сержант Шепелев, приглашенный любезно Гольцем находиться в самой прихожей в качестве дежурного, мог видеть весь высший столичный круг.
Здесь в час времени прошли все министры, послы, фельдмаршалы, сенаторы, все красавицы и львицы. Все пожилые люди были, конечно, в своих мундирах, но молодые женщины и многие офицеры гвардии были в костюмах.
И под звуки огромного оркестра на хорах весь щегольской дом Гольца переполнился блестящей, сияющей, даже сверкающей, как радуга, всевозможными цветами, шумной и гулливой толпой. Многие были просто костюмированы, другие в масках. Большая часть проходивших с замаскированными лицами тайком и быстро показывали лицо свое хозяину дома из вежливости, как бывало принято, или же просто знаком, двумя словами знакомого голоса как бы называли себя. Часто Гольц не мог расслышать голоса встречаемых, но делал вид, что узнает… Отчасти в глазах его начинало уже рябить от этой вереницы пестрых костюмов и мундиров, отчасти и музыка мешала, и гул голосов беседующих гостей, который смешивался с музыкой и иногда даже заглушал звуки литавр и труб.
Шепелев стоял у стены невдалеке от входных дверей и глаз не спускал с порога, где красивый посланник принимал гостей. Ему казалась странной та случайность, что именно его было приказано послать по наряду дежурным на бал к этому единственному человеку во всем Петербурге, которого он всем сердцем, всем юношеским пылом ненавидел и проклинал.
Он был убежден, что это его счастливый соперник; не будь его на свете, быть может, «она» не обошлась бы с ним так, как обошлась в последний раз в квартире Позье. И что за каприз сказать, что она даже не графиня? Шепелев уже после сообразил, что она могла скрывать свое имя от Позье, что он сделал нескромность. Но почему же она не пустила его к себе? Почему обошлась так гордо и глядела на него так презрительно, таким оскорбительным взглядом? Наверное, он, этот Гольц, – его счастливый соперник! Он чувствовал, что глубоко ненавидит этого человека, а между тем эта ревность, эта ненависть казалась для него самого глупою и смешною. Что общего между ним, юношей сержантом, и этим молодым красавцем, который уж теперь первая личность двух стран, важное государственное лицо в Пруссии и, по общему отзыву, теперь самое влиятельное лицо и в русском государстве?!
– Он любимец Фридриха Второго и Петра Третьего, a я любимец… Квасова! – грустно шутил юноша.
И в Шепелеве совершалась томительная борьба, сказывавшаяся какой-то острой болью на сердце, какою-то страшной тягостью в голове, во всем существе. Пускай бы она не любила его! Он не стоит любви такой женщины! Что он такое? Мальчишка! Но она любит вот этого! За что? За то лишь, что он посланник.
И юноша постоянно то и дело как бы забывался, стоя близ стены прихожей. Вереницы ярких костюмов и масок вились перед его глазами, но он почти не глядел на них. Изредка рука его, державшая обнаженную шпагу, судорожно стискивала эфес, и глаза впивались в фигуру элегантного и красивого хозяина дома в блестящем мундире.
Если бы Гольц имел время обернуться на юношу-дежурного с обнаженной шпагой в руке, и приметить его взгляд, то, конечно, несмотря на свои заботы, он бы все-таки удивился…
А между тем сержант не мог оторвать взора от дверей еще по другой причине. Он каждую минуту ожидал появления именно той, от которой так мучился и страдал. Он знал наверное, что графиня Скабронская будет в числе приглашенных дам как близкий друг хозяина.
Наконец на несколько минут вереницы гостей, входивших по лестнице, гром и гул подъезжавших экипажей вдруг прекратились… Все съехались.
«А ее нет!» – думал Шепелев. Но он утешался мыслью, что и государь еще не приехал. Разумовских еще нет, Воронцовой еще нет.
Гольц заметил перерыв в съезде гостей и обрадовался возможности отойти от дверей и отдохнуть. Так как каждое слово его в этот вечер могло быть замечено, рассказано, перетолковано, то он решил заранее почти не говорить ни с кем из высших сановников в отдельности, то есть без свидетелей, и вообще мало говорить под предлогом хлопот хозяина.
Теперь, в свободную минуту, он заметил в той же прихожей будто стерегущих его: фельдмаршала Трубецкого, Глебова и нового врага своего, на днях побежденного им, тайного секретаря государя, Волкова. Он догадался, что они хотят с ним заговорить, но очень ловко парировал светское нападение врага.
Гольц, увидев юношу, отошел к нему и стал говорить с ним будто бы о деле. В действительности он спрашивал, делает ли Преображенский полк успехи в экзерциции, многие ли офицеры говорят по-немецки, как солдаты приняли новую форму.
При этом посланник глядел на юношу-сержанта так, как стал бы смотреть на кресло, стол или канделябр.
Посидев у графини, побеседовав с ней, расспросив ее о том, что говорят в Петербурге о мирном договоре и о нем самом, Гольц развеселился и забыл думать об украденной сумме.
– Главная беда, – сказал он, – не в том, главная беда, что мне теперь нечего ко дню маскарада поднести Воронцовой. У Позье, наверное, нет ничего готового свыше каких-нибудь трехсот червонцев.
Маргарита согласилась с этим, но затем, покуда Гольц продолжал рассказывать ей о своих приготовлениях к балу, Маргарита задумалась и соображала что-то. Наконец как бы пришла в себя и вымолвила:
– Хотите у меня купить бриллиантовую брошь, только что переделанную заново тем же Позье и которая мне не нужна? Мы ее свезем к нему, оценим, и вы возьмете.
Гольц с радостью согласился.
Когда он уехал, Маргарита позвала свою любимицу и весело объявила ей:
– Ну, Лотхен, опять деньги есть! Одну вещь из дедушкиных продала.
– Это все прекрасно, liebe Gr?fin, но когда же вы заплатите дедушке за эти все бриллианты? – выговорила Лотхен, насмешливо и двусмысленно усмехаясь.
– Не скоро, Лотхен. И по правде сказать тебе… я буду откладывать и тянуть дело до тех пор, покуда не наступит час, в который мне можно будет совсем не платить!
– А разве такой час наступит? Не верю.
– Верь, Лотхен.
Горничная помолчала и выговорила, смеясь:
– Ну а сержант?
– Ну, об этом не смейся. Это не шутки! – как-то странно произнесла Маргарита, задумчиво и грустно.
Лотхен вытаращила глаза и чуть-чуть пожала плечами.
XXXII
Первого мая в сумерки в доме прусского посланника волнение и движение усилились.
К семи часам весь большой дом горел огнями, и светлые лучистые столпы выливались из окон, освещая, как днем, широкую улицу. Кроме того, около подъезда и вокруг всего дома горели плошки и бочонки со смолой.
Взводы гвардейских солдат от разных полков в красивых новых мундирах стали появляться под командой капралов и сержантов, и их расставляли часовыми на улице, у подъезда, в передней, на широкой лестнице и до дверей самой приемной. Это было сделано по приказу государя в знак особого почета к любимцу и посланнику нового союзника-короля.
На большой лестнице, украшенной гирляндами и венками и покрытой красным сукном, преображенский сержант расставлял часовых из своего взвода и двоих из них поставил у самых дверей, ведущих в приемную. Сержант был Шепелев, а один из рядовых, которого он умышленно поставил не в передней и не на лестнице, а на том месте, где будет видно всех гостей, был Державин. Но оба друга, сержант и рядовой, были как-то грустны. Шепелев был немного бледен и снова почти в таком же состоянии, как когда-то до своего свидания с Маргаритой у гадалки.
Державин был тоже грустен. Перевод его в голштинцы все не ладился с Великого поста, а на дворе уж май месяц. Вдобавок хотя он и любил своего ученика, но невольно стал теперь завидовать ему. Этот добрый малый ничем, конечно, не отличался, был такой же рядовой, как и он, а теперь, перескочив через чины капрала и унтер-офицера, попал прямо в сержанты бог весть за что, по какой-то странной, никому в полку не понятной случайности, по капризу принца Жоржа.
«И вот вся жизнь так пройдет, – думалось рядовому Державину с ружьем на плече, когда он глядел на товарища сержанта со шпагой. – Одному везет, а другому нет. Почему одному везет и почему другому не везет – сама матушка-фортуна не знает».
Бал-маскарад у прусского посланника, объявленный за три дня перед тем в городе, то есть вскоре после тайного подписания мирного договора, наделал много шума в столице.
«Голштинцы», и русские и немецкие, конечно, ликовали. Этот маскарад был видимый признак, что на их улице праздник.
Партия «елизаветинцев», конечно, негодовала, всякий со своей точки зрения. Одни говорили, что со смерти покойной императрицы прошло только четыре месяца, что это своего рода скандал. Другие прибавляли, что Гольц мог бы сделать простой бал, но на смех делает маскарад прежде, чем кончился траур по государыне, бывшей всю жизнь врагом Фридриха.
Многие являлись к государыне спрашивать, поедет ли она. Екатерина Алексеевна не отвечала ни да, ни нет, но в уме давно решила в этот день заболеть и остаться дома.
Многие, как Разумовские и вообще близкие люди покойной императрицы, чувствовали себя оскорбленными и тоже обещались захворать и не быть в маскараде.
Но за день до первого мая прошел по лагерю «елизаветинцев» как бы пароль: всем быть в маскараде.
Один из самых молчаливых на вид и ленивых офицеров кружка Орловых, Пассек, был в то же время самым благоразумным, осторожным и тонким.
Пассек был особенно близок и дружен с княгиней Дашковой и чаще других бывал у нее. И она и он рассудили, что не быть в маскараде прусского посланника – значит дать возможность врагам пересчитать и, так сказать, пометить всех главных лиц неприязненного лагеря. Дашкова, конечно, передала это государыне. В тот же вечер не известными никому, но, конечно, известными государыне путями весь лагерь «елизаветинцев», явных и смелых, осторожных и боязливых, получил как бы приказ готовить костюмы и мундиры и ехать к Гольцу.
И теперь не только те, которые хотели умышленно захворать, стали собираться на бал, но даже и те, которые действительно хворали, также поехали.
В восемь часов уже начался шум на улице, крики кучеров и форейторов, солдат и полицейских, гром копыт и колес по мостовой; гости начали съезжаться.
Гольц встречал всех в дверях, отделявших большую, украшенную зеленью и венками лестницу от прихожей, где на двух стенах, один против другого, висели два щита с двумя государственными гербами – прусским и российским.
И здесь сержант Шепелев, приглашенный любезно Гольцем находиться в самой прихожей в качестве дежурного, мог видеть весь высший столичный круг.
Здесь в час времени прошли все министры, послы, фельдмаршалы, сенаторы, все красавицы и львицы. Все пожилые люди были, конечно, в своих мундирах, но молодые женщины и многие офицеры гвардии были в костюмах.
И под звуки огромного оркестра на хорах весь щегольской дом Гольца переполнился блестящей, сияющей, даже сверкающей, как радуга, всевозможными цветами, шумной и гулливой толпой. Многие были просто костюмированы, другие в масках. Большая часть проходивших с замаскированными лицами тайком и быстро показывали лицо свое хозяину дома из вежливости, как бывало принято, или же просто знаком, двумя словами знакомого голоса как бы называли себя. Часто Гольц не мог расслышать голоса встречаемых, но делал вид, что узнает… Отчасти в глазах его начинало уже рябить от этой вереницы пестрых костюмов и мундиров, отчасти и музыка мешала, и гул голосов беседующих гостей, который смешивался с музыкой и иногда даже заглушал звуки литавр и труб.
Шепелев стоял у стены невдалеке от входных дверей и глаз не спускал с порога, где красивый посланник принимал гостей. Ему казалась странной та случайность, что именно его было приказано послать по наряду дежурным на бал к этому единственному человеку во всем Петербурге, которого он всем сердцем, всем юношеским пылом ненавидел и проклинал.
Он был убежден, что это его счастливый соперник; не будь его на свете, быть может, «она» не обошлась бы с ним так, как обошлась в последний раз в квартире Позье. И что за каприз сказать, что она даже не графиня? Шепелев уже после сообразил, что она могла скрывать свое имя от Позье, что он сделал нескромность. Но почему же она не пустила его к себе? Почему обошлась так гордо и глядела на него так презрительно, таким оскорбительным взглядом? Наверное, он, этот Гольц, – его счастливый соперник! Он чувствовал, что глубоко ненавидит этого человека, а между тем эта ревность, эта ненависть казалась для него самого глупою и смешною. Что общего между ним, юношей сержантом, и этим молодым красавцем, который уж теперь первая личность двух стран, важное государственное лицо в Пруссии и, по общему отзыву, теперь самое влиятельное лицо и в русском государстве?!
– Он любимец Фридриха Второго и Петра Третьего, a я любимец… Квасова! – грустно шутил юноша.
И в Шепелеве совершалась томительная борьба, сказывавшаяся какой-то острой болью на сердце, какою-то страшной тягостью в голове, во всем существе. Пускай бы она не любила его! Он не стоит любви такой женщины! Что он такое? Мальчишка! Но она любит вот этого! За что? За то лишь, что он посланник.
И юноша постоянно то и дело как бы забывался, стоя близ стены прихожей. Вереницы ярких костюмов и масок вились перед его глазами, но он почти не глядел на них. Изредка рука его, державшая обнаженную шпагу, судорожно стискивала эфес, и глаза впивались в фигуру элегантного и красивого хозяина дома в блестящем мундире.
Если бы Гольц имел время обернуться на юношу-дежурного с обнаженной шпагой в руке, и приметить его взгляд, то, конечно, несмотря на свои заботы, он бы все-таки удивился…
А между тем сержант не мог оторвать взора от дверей еще по другой причине. Он каждую минуту ожидал появления именно той, от которой так мучился и страдал. Он знал наверное, что графиня Скабронская будет в числе приглашенных дам как близкий друг хозяина.
Наконец на несколько минут вереницы гостей, входивших по лестнице, гром и гул подъезжавших экипажей вдруг прекратились… Все съехались.
«А ее нет!» – думал Шепелев. Но он утешался мыслью, что и государь еще не приехал. Разумовских еще нет, Воронцовой еще нет.
Гольц заметил перерыв в съезде гостей и обрадовался возможности отойти от дверей и отдохнуть. Так как каждое слово его в этот вечер могло быть замечено, рассказано, перетолковано, то он решил заранее почти не говорить ни с кем из высших сановников в отдельности, то есть без свидетелей, и вообще мало говорить под предлогом хлопот хозяина.
Теперь, в свободную минуту, он заметил в той же прихожей будто стерегущих его: фельдмаршала Трубецкого, Глебова и нового врага своего, на днях побежденного им, тайного секретаря государя, Волкова. Он догадался, что они хотят с ним заговорить, но очень ловко парировал светское нападение врага.
Гольц, увидев юношу, отошел к нему и стал говорить с ним будто бы о деле. В действительности он спрашивал, делает ли Преображенский полк успехи в экзерциции, многие ли офицеры говорят по-немецки, как солдаты приняли новую форму.
При этом посланник глядел на юношу-сержанта так, как стал бы смотреть на кресло, стол или канделябр.