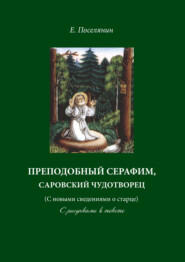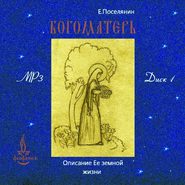По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Идеалы христианской жизни
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Детей интересовали и старые большие иконы в дорогих окладах в бабушкиной спальне, и бесчисленное множество горшков со свежей, прекрасно содержавшейся зеленью и цветами на бабушкиных окнах, и старый серый бабушкин кот, тихо мурлыкавший на своей неизменной скамеечке с мягкой подстилкой, и на стенах старые портреты, навешанные чинно и в порядке, всякого размера, и масляными красками, и водяными, и забавные дагерротипы на стекле, и старинная посуда.
Бабушка вела беседу медленную и тихую. Она любила вспоминать о разных подвижниках, которых знала; рассказывала о святых местах, так как была охотница посещать их, и о тех чудесах, о которых за последнее время где-нибудь вычитала или услышала. И от всех ее рассказов, с этой мирной обстановкой ее дома, что-то тихое, успокаивающее, полное доверия и предчувствия близкой вечности вкрадывалось в душу, навсегда прокладывая в ней глубокую борозду.
После обеда шли обыкновенно в комнату к старой слепой бабушкиной служанке Нениле, жившей на покое. Нениле было много-много лет. Она была из подмосковных крестьян и хорошо помнила «француза», так как в двенадцатом году она была взрослой девушкой.
Дети усаживались рядком на мягкую кровать Ненилы, а старушка, никогда не сидевшая без дела, двигая спицами, в сотый раз рассказывала своим неспешным старческим голосом про разные истории «с французом».
Теплая светелка с большой изразцовой лежанкой была в полумраке надвигающегося вечера мирно озарена огнем лампадки. Освещенная ею, проступала позолоченная резьба ветвей дешевого киота. По стенам в старых рамах висели подаренные уже давным-давно бабушкой Нениле выцветшие одного и того же размера гравюры с разными событиями из жизни преподобного Сергия Радонежского.
Первая изображала, как ангел является под дубом преподобному в детстве и как мальчик стоит перед ангелом со сложенными руками для принятия благословения, с уздечкой, висящей у локтя. На одной преподобный месил тесто для просфоры. На другой – смотрел через окно кельи на множество птиц, наполнявших пространство монастыря, в предсказание множества учеников его. На третьей, сидя на обрубке пня в келье, занимался портняжничеством. На четвертой чудесно изводил из земли источник воды. На пятой посещала его Богоматерь. Была еще картинка, как его приобщают перед смертью, и как он при осаде монастыря поляками обходит монастырские стены, окропляя их святой водой.
И, смотря на эти картинки, дети принимались расспрашивать Ненилу о том, сколько раз она ходила к «Троице» на богомолье и какие с ней по дороге бывали приключения.
Вот где и как узнали дети о преподобном Сергии Радонежском.
И для того мальчика, которого тетушка брала с собой в Троице-Сергиеву лавру, эти поездки были полны какой-то особой привлекательности.
Раннее-раннее вставание, чтобы попасть на поезд, который идет в начале седьмого часа, быстрый проезд по знакомым улицам Москвы, в этот час имеющим какой-то необычный вид, точно они другие; в поезде думы об этом великом отшельнике: как он не мог усваивать себе того, чему его учили, и как ему явился ангел, чтобы просветить его ум (картинка в комнате бабушкиной Ненилы), как он покоил до смерти своих родителей и как потом ушел в этот дремучий лес, как искушали его злые духи, и как он благословлял Димитрия Донского идти на Мамая.
А потом приезд в лавру; знакомый извозчик, всегда ездящий с тетушкой, в просторных санях; знакомая дорога в гору и наконец лаврские святые ворота.
А там чинная служба, «заказная» обедня для них в одной из маленьких церквей и панихида с литией снаружи, перед высокими тяжелыми памятниками на могилах родных. Потом Троицкий собор, рака преподобного в великой славе, вереницы богомольцев, нескончаемые возгласы молебнов: «Преподобие отче Сергие, моли Бога о нас!», сияние множества огней вокруг раки, как отблеск ликующей вечности, чувствуемые тут, слагавшиеся к этой раке длинной чередой веков народная вера, слезы, стоны, моления и стоящий в святом воздухе этого священного места торжественный, неизгладимый отзвук когда-то прозвучавшей здесь блаженной вести: «Се Пречистая грядет!», когда-то произнесенного здесь великого обетования: «Неотступна буду от места сего и буду покрывать его»…
И как все эти впечатления западают в душу, чтобы никогда не выпасть из нее!
А потом могила митрополита Филарета, который бывал в доме бабушки и о котором столько рассказов и воспоминаний на Москве; знаменитые троицкие просфоры, забираемые в большом количестве, с надписью имени на обороте, сделанною гусиными перьями в руках послушников за длинным, черным столом около просфорной; поездка к «Черниговской» лесом, по которому, конечно, бывало, пробирались к преподобному Сергию тяжелой стопою медведи за хлебом, и в подземной церкви большая чудотворная икона…
Вот что нужно детям, чтобы внедрить в них крепко религиозное чувство.
Последующие бури могут временно умалить, порастрепать это чувство, но все же основа останется, и как на величественном, далеко в землю ушедшем фундаменте разрушенного дворца можно выстроить снова дворец еще краше, так человек, переживший в детстве всю полноту религиозных чувств, несмотря ни на какие последующие искушения отрицания и равнодушия, всегда может обратиться к Богу с еще большим пылом и едва ли умрет далеким от Бога.
С самого раннего возраста надо приохочивать детей к духовному чтению.
Я знаю человека, который всю жизнь имел большое сочувствие к монашеству и монахам. Это сочувствие зародилось в нем в раннем еще детстве.
Ему было лет пять, и он еле читал по складам, когда ему попались в руки какие-то обрывки из одной духовной книги крупной печати. Но в этих обрывках было полное краткое житие преподобного Феодосия Киево-Печерского, и мальчик с восторгом прочел его, особенно те страницы, где описано, как в детском возрасте подвижничал преподобный Феодосий, как надевал на себя вериги и как преследовала его мать.
Я знал еще мальчика, который выказывал большое сочувствие пешим богомольцам.
В этой семье возили детей весной и осенью, до переезда в деревню, кататься и гулять в парк, за заставу, где проходят богомольцы, пробирающиеся к преподобному Савве Сторожевскому и в Новый Иерусалим, или возили через Крестовскую заставу в Останкино, по шоссе, где попадаются вереницы богомольцев, направляющихся к Сергию-Троице.
Этот мальчик любил заговаривать с богомольцами, жалел их, что они идут пешком и тащат еще на спине тяжелые котомки. Денег у него, хотя его родители были богаты, не было по его возрасту ни гроша, но у него бывали с собой карамельки, которые им давали на дорогу. Эти карамельки он и отдавал богомольцам. А раз, отдав им свои и разойдясь с ними на далекое расстояние, он уговорил братьев отдать ему и их карамельки и опрометью принялся догонять богомольцев, чтобы вручить им это сокровище, – сопровождавший их учитель торопил их садиться в коляску, чтобы вернуться домой.
Все вот такие черты детской жизни и образуют обстановку, благоприятную для развития и укрепления веры.
И часто не те лица, которые гордо полагают, что они руководят ребенком, – часто не эти вовсе лица направляют душу и жизнь ребенка по тому или другому руслу.
Вспомнить лучезарное создание Тургенева – Лизу Калитину из «Дворянского гнезда», один из высших русских духовных литературных типов.
В чопорном, холодном и скучном доме ее родителей не лживо-сентиментальная ее мать и не погруженный в свои своекорыстные расчеты отец направляли жизнь чуткого ребенка.
Около девочки стояла незаметная няня Агафья, женщина цельной души и крупной веры, одна из тех, кем держится мир Святой Руси. Стояла и заботливой рукой вела девочку ко Христу.
Те службы, к которым на заре, в задумчивую и загадочную пустоту церкви водила няня маленькую Лизу, те рассказы, в которых с бесхитростною верою своею она описывала страдания мучеников, и как цветы подымались вдруг из земли, орошенной их кровью, – все это вырабатывало постепенно в Лизе то тайное, громадное чувство к Богу, которое потом, при крушении ее несмелых земных надежд, заполнило всю ее жизнь, – то чувство, о котором так просто, потрясающе и исчерпывающе выражается Тургенев: «Бога одного любила она робко, восторженно, нежно…»
Тип Лизы Калитиной, питомицы няни Агафьи, как бы парит над землей, и жизнь ее стоит на той грани, где кончается земная повесть, где начинается житие праведницы.
Другой бессмертный образ русской женщины – Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» Пушкина. И здесь точно так же нам ясно духовное воздействие простой русской женщины, няни – неграмотной бедной крестьянки, которая имела свое цельное, непоколебимое воззрение на жизнь как на поле долга и чести и привила это воззрение своей питомице.
Таня, взрослая годами, но ребенок душой, открывает няне свою тайну, никому еще не высказанную, – о любви своей к Онегину. И как принимает старушка это признание в любви, которое принесло Тане столько горя?
– Няня, няня, я тоскую!
Я плакать, я рыдать готова!
– Дитя мое, ты нездорова;
Господь, помилуй и спаси!
Чего ты хочешь, попроси…
Дай окроплю святой водою,
Ты вся горишь… – Я не больна;
Я… знаешь, няня… влюблена.
– Дитя мое, Господь с тобою! —
И няня девушку с мольбой
Крестила дряхлою рукой.
Поэт немного кладет черт, чтобы уяснить нам душу Татьяны, и особенно целомудренно мало говорит он об ее верованиях. Но во всей этой краткости широкие горизонты Татьяниной идеальной души, для которой и любовь была чистым восторгом и поклонением тому, что казалось ей самым высоким и прекрасным из всего, что она доселе встречала, – широкие горизонты этой души открывают ее слова о том, что прежде своей встречи с Онегиным она его уже предчувствовала:
Не правда ль, я тебя слыхала,
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души…
И в это самое мгновенье
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью,
Не ты ль с отрадой и любовью
Слова надежды мне шепнул!
Так в Татьяне мысль о любимом человеке совпадает с молитвой, ибо все, что есть в глубоких людях лучшего, – все то у них соединено с вечностью. И конечно, в несчастном браке своем думая об Онегине, она мечтала о том, как вне тягостных условий земли они встретятся в вечности.
И что ее простая бесхитростная няня имела большое влияние на образование цельного миросозерцания Татьяны, видно из того, что в минуту нравственного апофеоза своей героини, в отповеди ее Онегину, как укрепляющую ее силу, Пушкин влагает в нее память о безвестной ее няне.
Совершив то дело, к которому призвал ее Бог, – развитию души человеческой воистину «по образу и подобию Божию», – смиренная старушка отошла к Богу, возносящему смиренных, и была положена среди таких же, как она, безропотно перенесших жизненную страду тружеников. И светлая тень ее еще раз мелькает перед читателем, когда в ответе Онегину Татьяна вспоминает:
Смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей.
Вот откуда черпали свою немногоглаголивую веру люди, воспитанные такими нянями и дядьками (Савелия из «Капитанской дочки», Евсеич С. Т. Аксакова).